 Сейчас в интернете популярны видеоролики, в которых самые разные животные, даже такие антагонисты, как кошки, собаки и птицы, находятся рядом и дружелюбно взаимодействуют: помогают друг другу, заботятся друг о друге, спасают иногда и даже делятся едой — в общем, сосуществуют на равных правах. Если бы эти животные были людьми, мы бы сказали, что они ведут себя нравственно.
Сейчас в интернете популярны видеоролики, в которых самые разные животные, даже такие антагонисты, как кошки, собаки и птицы, находятся рядом и дружелюбно взаимодействуют: помогают друг другу, заботятся друг о друге, спасают иногда и даже делятся едой — в общем, сосуществуют на равных правах. Если бы эти животные были людьми, мы бы сказали, что они ведут себя нравственно.На деле, разумеется, ни о какой нравственности животные не подозревают, а ведут себя дружелюбно исключительно по той причине, что они сыты и выросли в соответствующем гетерогенном окружении. Стоит в их общество внести небольшую конкуренцию — не давать им в нужном количестве еды или же, не дай бог, поместить среди самцов самку, да еще весной, — как вся эта идиллия в подавляющем большинстве случаев закончится. Животные начнут доказывать, что они между собой не равны, что каждая особь заслуживает большего, что именно ему, вот этому коту, положено есть, а ты, птица, отойди, не то голову откушу. То есть животные начнут всячески — силой, ловкостью, хитростью, подлостью, умом — выделяться.
стория с многострадальной постановкой режиссером Кулябиным вагнеровского «Тангейзера» примечательна тем фактом, что началась с разговора о кощунстве и нравственности, но очень быстро сдрейфовала в другую плоскость: те люди, которые вчера ее порицали за поругание святынь, внезапно вспомнили еще один аргумент, что Кулябин сделал свою, авторскую трактовку оперы Вагнера и тем испоганил ее.
На первый взгляд, такая передислокация в лагере обвинителей выглядит тактическим приемом: мол, приметив, что обвинение в святотатстве обрастает кое-какими неприятными коннотациями и обертонами, люди переключились на безопасную сферу эстетики. Но это только на первый взгляд — на деле претензия осталась той же самой, оттого так легко и поменялся модус.
Ведь что вменяется в вину Кулябину во втором случае? А вот что: есть великий композитор Вагнер. Он написал великую оперу, в которой твердо установил, какие события в какой последовательности там происходят, как выглядит сюжет и так далее. Фактически он создал традицию исполнения. И все приличные люди в этой авторской трактовке Вагнера ставят, и к ним никаких претензий, потому что они ставят как все, как положено. А этот Кулябин — он что сделал? Он поступил не как все (тут уже недалеко до разговора о том, что он захотел известности и славы и их получил, — и действительно, такие разговоры ведутся).
Выделился режиссер Кулябин. Значит, он человек безнравственный.
о, что нравственность, — это способ усреднения в обществе человека, видно по синонимам: ближайшим синонимом к нравственности будет «скромность» (особенно хорошо это заметно на примере традиционных требований к девушкам), социальный навык не выделяться. В деревне, которая в традиционалистском дискурсе является оплотом нравственности (при всех эмпирических свидетельствах противного), более всего не любят тех, кто выделяется (чего, очевидно, не учел в свое время школьный учитель Илья Фарбер — человек, судя по дальнейшим его поступкам, вообще не очень разумный). Мне довелось наблюдать в одной среднерусской деревне, с каким недоверием там относились к двум членам сообщества: одна читала книги, другой не пил, качался и много работал у себя на участке; первую считали полудурошной, второго — кулаком; обоих подозревали в самых разных грехах, то есть, считали людьми безнравственными. Нравственность, оторванная от своих легитимирующих основ и спущенная в быт, вообще поразительно мало имеет отношения к этике: ханжа будет скорее сочтен нравственным человеком, нежели тот, кто занимается благотворительностью, так как ханжа всем своим видом показывает, что он подчиняется нормам поведения, а с благотворителем еще нужно разобраться, что у него в душе-то. Любой человек, который имеет неосторожность чем-либо выделиться, рискует тем, что при любом резком движении навлечет на себя подозрения именно в безнравственности. При этом напрасно будет думать, что это верно только для общества с традиционной моралью. Ближайшим примером того, как ведут себя люди, в обычной жизни с презрением относящиеся ко всякой «традиционности», будет пример доктора Лизы, которую, когда она поступила не так, как от нее ожидала та часть общества, что у нас безосновательно именуется либеральной, тотчас заподозрили именно в нечестности, сиречь — безнравственности. Стали говорить, что у нее какой-то поддельный диплом, что у нее какой-то не такой фонд, — словом, повели речь на темы, не имеющие никакого отношения к тем ее поступкам, которые, собственно, вызвали общественное неудовольствие.
Существует простое эволюционное объяснение физиологической способности человека выказывать смущение: покрываться краской, говорить дрожащим голосом и даже плакать. Навык это сугубо социальный, и смысл его в том, чтобы показать окружающим, что отклонение от нормы вышло случайно, что о самой норме тот, кто допустил трансгрессию, прекрасно осведомлен и впредь будет ее придерживаться, чтобы не испытывать стыд опять. Характерно при этом, что люди смущаются не только тогда, когда у них задралась юбка или расстегнулись штаны, но и тогда, когда они говорят вещи, кажущиеся им глупыми или вызывающими, при совершении деяния, никакого отношения, на первый взгляд, к морали не имеющего. Точнее будет сказать, что и в случае с задранной юбкой, и в случае с вызывающей речью человек чувствует, что он совершает некое неприличие; таким образом, под неприличием понимается все то, что не укладывается в добродетель скромности и незаметности. Человек, требующий от других нравственности, требует, чтобы другие не выделялись, — только и всего.

равственность — нормирующее представление; однако, в отличие от других норм, она удобна тем, что ею пользоваться как аргументом может любой. Полицию, армию, логику и прочие инструменты убеждения нужно еще иметь или вызвать, а привлечь нравственность не стоит ровным счетом ничего и доступно всякому. Разумеется, любая нормирующая идея нуждается в обоснованиях, в противном случае непонятно, зачем ей следовать; в случае с нравственностью обоснованием является то утверждение, что она «была всегда». Нравственность представляется универсальной ценностью, дошедшей до нас из седых глубин; люди попроще искренне считают, что по законам нравственности их предки жили всегда, — точно так же, как профессиональные матери полагают, что понятие «мать» всегда было свято и всегда, с самых древних времен, автоматически избавляло женщину от необходимости предоставлять какие-либо иные доказательства своей социальной необходимости. Люди посложнее, прослышав, что все-таки так было не всегда, полагают, что это происходило от неразвитости: мол, прежде люди были дикие и не знали, как надо, зато мы теперь знаем (тут надо понимать разницу между «выработали норму» и «узнали норму»; второе предполагает, что нечто, о чем мы только сейчас составили себе представление, тем не менее, существовало и прежде — в виде невидимого физического тела ли, как микроб до Левенгука, в виде универсалии ли, в виде божественного уложения или же в виде неоткрытого объективного закона, вроде закона тяготения до Ньютона).
Между тем — и об этом известно любому студенту-гуманитарию — ни в обществе, ни в культуре никаких универсальных норм нет; и все, что рядится в форму универсальной нормы, является продуктом идеологии (борюсь с искушением сказать, что это и есть один-единственный универсальный общественный закон). Рассуждения о нравственности под этим углом зрения выдают очень характерную идеологию — идеологию всемерного усреднения. Фиксация на нравственности в социальном пространстве присуща более всего двум группам: тем, кто чувствует себя незаслуженно обойденным земными благами (недаром в безнравственности и разврате традиционно обвиняют богачей), и тем, кто профессионально апеллирует к первым (необязательно с дурной целью): священникам, учителям жизни, разного рода проповедникам и, разумеется, политикам. Вторые менее интересны: они говорят то, что от них хотят слышать, даже если им кажется, что говорят они искренне (многие, впрочем, действительно говорят искренне — и среди политиков довольно большое число людей, чувствующих себя обделенными). Нравственность — удобный аргумент обездоленных: известное самооправдание гласит «зато я человек хороший». Постоянное, настойчивое требование «нравственного поведения» от других весьма банальным образом сводится к попытке создать среду, в которой отсутствует любая конкуренция, ведь конкуренция — это всегда стремление выделиться, это всегда попытка преодолеть норму. Конкуренция — это всегда неравенство, в результате которого образуются новые обездоленные. Мужчины требуют от женщин «нравственного поведения», и это требование прямо связано с желанием устранить социальную конкуренцию, ибо «нравственное поведение» для женщины предполагает скромность, семью, домашнее хозяйство и подчиненность — те самые вещи, которые делают ее социально невидимой. Старшие требуют нравственного поведения для молодых, добиваясь тем самым для них дополнительного социального груза: нет лучше способа отбить охоту что-то делать, чем пристыдить.
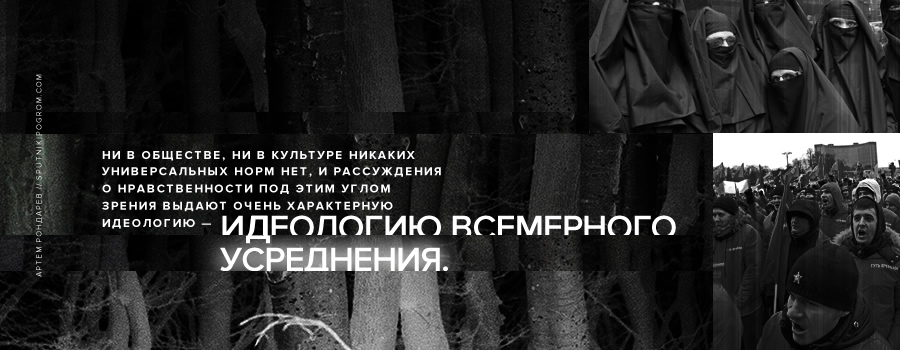
И с этой стороны интересным оказывается то, что апеллирует к этой идеологии отнюдь не одна лишь та часть нашего общества, которой приписывается исключительная тяга к традиционализму, но и другая — та, что считается у нас прогрессивной. После гибели Бориса Немцова именно она примерно неделю писала в газетах и соцсетях о безнравственности поведения тех, кто не слишком огорчился этой смерти, и о безнравственности поведения власти, которая такие настроения провоцирует, — породив при этом выражение, имеющее шанс стать полноценным мемом, — «атмосфера ненависти». То есть такая атмосфера «дурного поведения», которая материализует все самые ужасные вещи одним лишь своим присутствием; и это не говоря о том, что самые интеллигентные люди, вроде Ивана Давыдова, позволили себе рассуждать о «нелюдях» применительно к своим оппонентам. А поскольку в сфере социального поведения «люди» отличаются от «нелюдей» именно наличием стыда и совести (вспомним понятие «совестливый»), сиречь — нравственных категорий, то нетрудно заключить, что наша прогрессивная часть общества легко и элегантно воспользовалась тем самым оружием, которое обычно вменяет своим противникам.
о сути, в нашем общественном пространстве сейчас столкнулись две парадигмы, имеющие в основании своем однотипный статический идеал, идеал универсалистский, идеал, для осуществления которого надобно избавиться от всякого представления о конкуренции, привести все общество к тому состоянию, в котором пребывают животные в любимых интернетом видеороликах, способные на эрзац нравственного поведения. Сторонники одной парадигмы на пути осуществления своего идеала уповают на традиции православия и некие фиктивные «обычаи общества»; сторонники другой — на своеобразно понятую либеральную доктрину, в которой сохраняется представление о разного рода неприкосновенностях, однако магическим образом исчезает понятие о соревновании идей и идеологий. Оба лагеря объединяет одно — страх перед Другим; перед тем непонятным Другим, который может оказаться настолько витален и агрессивен, что лишит покоя и заставит прилагать какие-то усилия по обеспечению своего достатка и безопасности своими руками; Другим, который может сделать самую непростительную, самую безнравственную вещь на свете, а именно: может оказаться прав.
Не знаю, стоит ли упоминать, что к подлинной этике — к такому поведению в обществе, которое приносит наименьшее зло окружающим, — вся эта стратегия никакого отношения не имеет, потому что зло — от запрета на распространение знания и цензуры до прямых уголовных преследований — творят в первую очередь именно те, кто оперирует удобным для них понятием нравственности, желая со всех сторон обезопасить свое статичное, лишенное экзистенции существование.

азумеется, речь не идет о том, чтобы призывать к безнравственности: нормы нужны. Речь идет в первую очередь об отношении к нормам: в ситуации, когда общество понимает, что нормы — это конвенции и фикции, созданные для временного удобства больших групп людей, у него вырабатывается иронически-символическое, лишенное актуальной нервозности отношение к ним. Проблема нашего общества состоит именно в архаизации, опредмечивании фикций; вся наша нынешняя борьба за нравственность — это восстание архаического «реального» мира против мира символического.
Так называемый цивилизованный мир в области нравственности насквозь символичен и ссылочен. Современные купальники, нижнее белье, летние женские платья никакой, конечно, скромности реально в себе не содержат, они ничего не прикрывают; они только ссылаются на эту самую скромность: мол, если по какой-то невнятно сформулированной причине необходимо прикрывать срамные части, то вот вам нитка в заднице, как символическая уступка общественному желанию, чтобы задница была прикрыта.
Архаический мир (речь идет о европейском мире, с его культом материального) такого сорта символизм не любит, потому что он привык жить наощупь. То, что нельзя пощупать, хотя бы умозрительно, для него не существует: если на картине не видно, что художник десять лет учился, а потом еще десять лет лил пот, рисуя ее, то картина эта — дрянь и место ей в мусоре. В области нравственности то же самое: ее должно быть видно (лишенные европейской церемонности джихадисты показывают, каким образом это должно быть видно: если женщина не обернута в десять слоев, то она не демонстрирует приемлемый уровень нравственности).
Таким образом, если у условно «европейского» человека нравственность там, где содержатся все символы и фикции, — в голове, то участник архаического общества нравственность должен пощупать, чтобы убедиться в ее наличии. Ссылки на нравственность, уверения в нравственности, нравственное поведение per se его не убеждают. Нет уж, ты будь добр, покажи, какая у тебя нравственность. Делом докажи.
По сути, архаический подход к нравственности — это просто очень слабый уровень абстрагирования. Архаический человек требует реального, как правило, материального. Символы он читает плохо, ему для этого нужна помощь идеологии: вот государственное знамя, после долгой накачки госпропагандой, он готов признавать символом. А купальник на женщине — нет.

Самое же печальное происходит тогда, когда такому человеку все-таки объясняют, что символическое существует. Так как он не в состоянии актуализовать символическое в личном опыте и личном переживании (он не знает, как оно работает), то он начинает во всем нематериальном подозревать разный угрожающий символизм.
И вот отсюда растут все наши проблемы с оперой «Тангейзер», с «86 процентами» и с «запретами фашистской символики», в которую включены любые изображения, могущие «однозначно совпадать с фашистской символикой».
аким образом, решать надо не вопрос, что нам делать с безнравственными людьми или как нам обуздать борцов за нравственность, — решать надо вопрос о том, кто или что архаизирует наше общество и невротизирует его, кто или что опредмечивает абстракции, кто или что превращает символы в тотемы, поклонение которым для архаического человека является не символическим жестом, а самой что ни на есть повседневной реальностью. Очевидно, что едва из общества уйдут страх и обида, как оно сразу прекратит настойчивые поиски нравственности, оставив их тем, кто этими поисками создает себе карьеру, будь то философы, священники или политики, — и перейдет к куда более приятным занятиям.
Что характерно, нравственность при этом никуда не денется: она просто займет подобающее ей служебное место в череде иных социально полезных фикций, вроде красоты, пафоса или духовности.
Источник: http://sputnikipogrom.com




