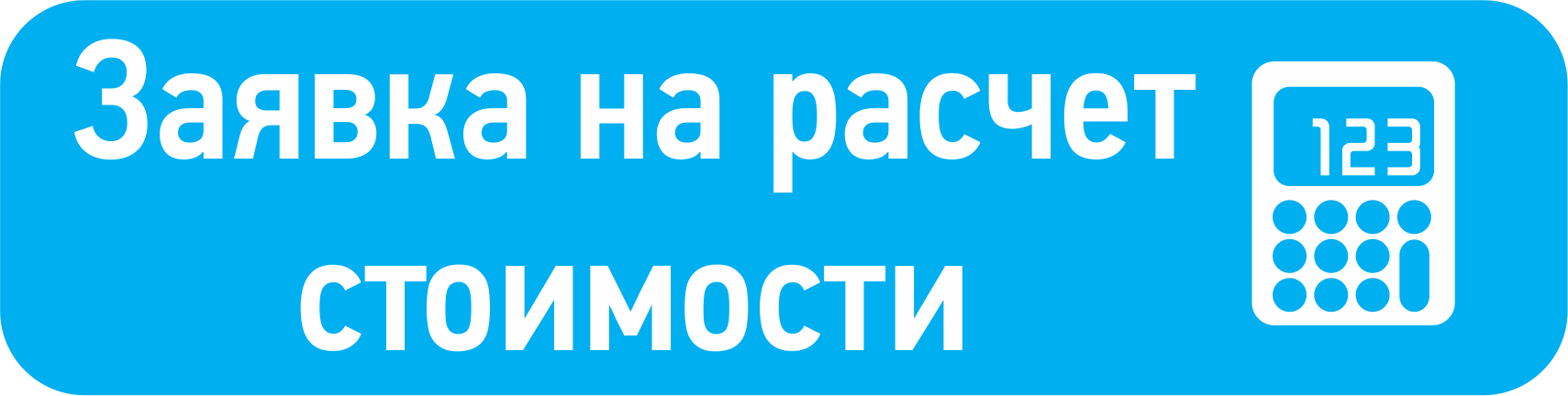Осень стелилась и стелилась, и никак не переходила в зиму. Грязь на ногах налипала и налипала, и не хотела отставать. Берцы совсем разбухли, форма сделалась сплошь серой от грязи и дождей: не успевая высыхать в короткие моменты отдыха, она высыхала на теле, но и такое редко случалось, потому что почти каждый день противник наступал, показывая непонятную упёртость. Сколько можно биться башкой в ворота, если их не открывают, а самим сил открыть не хватает?! Или их стратеги после лёгких прорывов под Изюмом и Балаклеей рассчитывали с такой же лёгкостью купаться в фарте и впредь, словно не понимали или не хотели понять, или догадки не хватало, что время быстрых «наступов» для них прошло, хотя они давно мечтали прорваться и выйти, как кому-то из них представлялось, на оперативный луганский простор. Этим представлениями они думку думали, видимо, не понимая того, что с каждым днём российская сторона всё более насыщалась войсками; рассредоточиваясь, они создавали глубину обороны, чтобы в нужный момент сжаться пружиной и устремиться вперёд.
Осень стелилась и стелилась, и никак не переходила в зиму. Грязь на ногах налипала и налипала, и не хотела отставать. Берцы совсем разбухли, форма сделалась сплошь серой от грязи и дождей: не успевая высыхать в короткие моменты отдыха, она высыхала на теле, но и такое редко случалось, потому что почти каждый день противник наступал, показывая непонятную упёртость. Сколько можно биться башкой в ворота, если их не открывают, а самим сил открыть не хватает?! Или их стратеги после лёгких прорывов под Изюмом и Балаклеей рассчитывали с такой же лёгкостью купаться в фарте и впредь, словно не понимали или не хотели понять, или догадки не хватало, что время быстрых «наступов» для них прошло, хотя они давно мечтали прорваться и выйти, как кому-то из них представлялось, на оперативный луганский простор. Этим представлениями они думку думали, видимо, не понимая того, что с каждым днём российская сторона всё более насыщалась войсками; рассредоточиваясь, они создавали глубину обороны, чтобы в нужный момент сжаться пружиной и устремиться вперёд.
Общему ожиданию предстоящих событий даже не помешало сообщение об оставлении российскими войсками Херсона. Вслед за эвакуированными жителями они переправились на левый берег Днепра, где были заранее подготовлены три линии обороны. Конечно, никто не хотел такого поворота, создававшего напряжённость в войсках, непонимание и недовольство в народе. Но всё это можно было бы принять и понять, если бы бойцам спецоперации не противостояло агрессивное западное сообщество, но этого буйные диванные головушки не хотели принимать во внимание. И пусть пока это противостояние не проявлялось участием напрямую в схватке с их живой силой, зато Запад завалил техникой, финансами, отчего у одурманенных лживой пропагандой украинцев, жадных до чужих денег, рекой лившихся, казалось бы, бесплатно, создавало иллюзию своего могущества, уникальности, а по сути проявлявшейся в самом натуральном лакейском лизоблюдстве. Не всем, конечно, но большинству это нравилось. Разделившись на воинские касты, одни, подогревая амбиции, гнали под пули и снаряды других ‒ тысячи необученных вояк, мечтавших при первой возможности сдаться.
Не обошлось без движения и во второй роте третьего батальона, когда пришло пополнение взамен выбывших за месяц непрерывных боёв. С новичками быстро перезнакомились, а «старики» давно знали друг друга, прошли проверку в бесчисленных боях, вылазках, караулах. Поменялось и командование. Командиром батальона назначили капитана Тундрякова вместо майора Пронько, погибшего от случайной пули снайпера. Редкий, конечно, случай, когда снайпер попал в пассажира движущего «уазика», да аккурат в висок; пуля прошла на два-три сантиметра выше «брони», установленной Прибылым по приказу майора, ‒ вот и не верь после этого в злой рок. Предусмотрительность, конечно, похвальное качество, но на войне она зачастую не срабатывает, если случай бывает сильнее и, не церемонясь, предъявляет свои права. Вместо Тундрякова, повысив в звании до старшего лейтенанта, назначили Акимова, а Семён Прибылой стал врио командира взвода. Все эти перестановки доказали, что фронтовая «карьера» дама капризная, в один момент может разрушить и опрокинуть тщеславные устремления, если они у кого-то ещё остались в таких условиях, где личное желание ничего не стоит, и все события подчас подчиняются необъяснимому движению, закономерность которого не возьмётся объяснить самый изощрённый ум.
Для Семёна ничего не изменилось с новым назначение, к которому он не рвался: назначили и назначили ‒ эка невидаль. С ним, как всегда, на подхвате Толян Кочнев ‒ как без него. И как-то сам собой к ним прибился рядовой Антон Безруков. Его имя и фамилию Семён сразу запомнил, когда тот напрямую высказал мнение о нём после «командировки» к Пронько. Высказал без капли подхалимажа, честно, в глаза. Конечно, правдорубы никому и никогда не нравятся, когда они уж слишком по живому «рубят», и зачастую небескорыстно отстаивают либо своё предвзятое мнение, либо, что ещё хуже, за какую-то выгоду чужое. Нет, Антон не таков: сказал и забыл, и не стал мелькать перед глазами, надеясь на поблажки. Всегда, при любой атаке или в обороне вместе держался, и Семён знал, хотя никому не говорил об этом: «Надёжный этот Безруков, на него всегда можно положиться!». Да вот только, чтобы уметь и успеть помочь в случае нужды, необходимо определённое совпадение фактов, возможностей, чтобы помощь была бы оказана именно в тот момент, когда без неё никак не обойтись.
Захотелось о нём узнать поподробнее, и при случае, разговорившись с ним, Семён узнал, что несколько месяцев назад он ушёл из монтажного управления, вернее, если верить его словам, его «ушли»; перед самой мобилизацией нашёл работу, но не успел выйти на неё. Антон не стал особо распространяться на тему «почему вынудили уволиться», сказал коротко и зло:
‒ Правду никто не любит!
‒ Правда ‒ сложная штука, чтобы высказать её, нужно подходящее место и время, а не сдуру орать о ней среди площади.
‒ Семён, всё это так, но бывают случаи, когда нет сил смотреть на какого-нибудь зажравшегося начальника, ставящего себя над всеми, при этом пресмыкающегося перед теми, кто выше по должности.
‒ Знал я одного такого, ‒ Прибылой вспомнил Чернопута. ‒ Как правило, они заканчивают горько, а то и трагично свою жизнь, к тому же омрачают знакомых и родственников. Но когда они ломятся к цели, совсем не думают об этом, им кажется, что вокруг все олухи, а они шишки на ровном месте. Уж сколько таких было и сколько ещё будет. Опыт человечества ничему никого не учит и никогда не научит. Вот, спрашивается, почему мы здесь? Что такая за причина кинула нас в окопы ‒ в грязь, вонь. Когда попить чистой воды ‒ это счастье, не говоря уж о том, чтобы помыться, переодеться в чистое и сухое бельё. И все знают причину этого: когда кому-то не живётся мирно, когда начинают зариться на чужое, запрещать родной язык, ставить себя над всеми. Вот отсюда и конфликты, войны ‒ от всей той животной сущности, скрытой до поры до времени в человеке. И что-то говорить таким, делать нравоучения ‒ бесполезно, если амбициозный и зарвавшийся чел ничего этого не замечает и, самое страшное, не хочет замечать. Вот и на фронте много всякой дури бывает. И всё вроде бы затевается правильно, ставятся задачи, просчитываются и прописываются планы, а на деле зачастую всё ломается, опрокидывается ходом действий той или иной стороны.
Семён по лицу посмурневшего Безрукова понял, что монолог вышел долгим и скучным, и мысли в нём избитые, но что делать, если хоть сто раз повторяй одно и то же, ничего не изменится. Вот и Антон, думается, остался при своём мнении, шедшем от какой-то обиды, нанесённой ему на работе, и никак не может забыть, может даже посмеяться над ней. Ведь ему тридцать, ещё жить и жить, радоваться каждому новому дню, цепляться за него, находить в нём радость, лелеять её для себя и других, но что-то не видно свежести во взгляде и настроении. Ему бы жениться, завести детей, глядишь, как-то по-иному жизнь бы сложилась, но нет, не женат, хотя был, а развёлся, как объяснил, из-за проблем с родителями ‒ каких именно, не уточнил, а у Семёна не повернулся язык выпытывать. Вот у его старшего брата всё хорошо: работа в полиции на высокой должности, семья ‒ ему бы так. Но что легко на словах, тяжело осуществить в жизни, когда не знаешь, как перемолоть невзгоды. «Но ведь как-то необходимо этого достигнуть и попытаться понять себя и окружающих. Очень необходимо!» ‒ думал Семён.
Во взвод Прибылого неожиданно назначили лейтенанта Комракова из мобилизованных. Ему за сорок, он не по годам располневший, когда-то окончил институт с военной кафедрой и его выпустили в звании лейтенанта. И вот теперь мобилизовали, он оказался на фронте после подготовки и начал командовать вверенным взводом. И то ли по привычке, то ли страдая нервами, постоянно похохатывал. Эта особенность показалась странной, не к месту проявлялась, но ко всему привыкают, привыкали помаленьку и к этому. Конечно, как вновь прибывшему, лейтенанту сразу захотелось проявить себя, показать, что он тоже что-то понимает в воинской службе, поэтому, если появлялась минута-другая свободного времени, он тотчас строил взвод: то для информации, то для проверки внешнего вида, то пытался вспоминать строевую подготовку. Командиры соседних взводов ему указывали на неуместность и глупость подобных занятий, создававших опасное скопление личного состава, чреватое тяжелейшими последствиями при артобстреле, ‒ он ни к чему не прислушивался. Даже, говорят, Акимов вызывал его в свой блиндаж и о чём-то говорил, но и это не подействовало. Зато когда на вытертой стенке окопа появилась нацарапанная ножом надпись: «Комраков будешь выё….ться от своих пулю схлопочешь», ‒ всё изменилось. Хотя надпись оказалась без знаков препинания, но на лейтенанта она повлияла даже без корректуры, если его в тот же день будто подменили: тише воды, ниже травы стал.
Никто не знал, кто это придумал, но Семён догадался, когда увидел повеселевшего Безрукова, мигнувшего при встрече, и озорно подумал: «Молодец, мужик! Так и надо лечить гундосых!».
37.
Прибылой вспомнил разговор с Безруковым через несколько дней и убедился в правильности недавних мыслей. К этому времени по-настоящему запуржило, пусть и ненадолго, грязь под ногами превратилась в слякоть, и они готовились отразить очередной наступ украинских «партнёров», немного сместившись вправо по фронту, а при ответном преследовании занять безлюдную деревушку в «серой» зоне. И никто не объяснил, для какой такой необходимости планируется это «завоевание», какую пользу оно принесёт в тактическом плане, если общего движения не намечалось, но, видимо, новому комбату Тундрякову захотелось проявить инициативу и доложить о значительном наступательном успехе. Его, конечно же, не могли ослушаться ни в ротах, ни во взводах. К тому же наступающий в этот день противник появился перед деревушкой мелкими группами, создавая охват с двух сторон, и только техника, совсем добивая асфальт, шла и без того разбитой дорогой. Бронемашины и пехоту разведчики вовремя заметили, наступавших знатно встретили артой, и после первой же задымившейся машины остальные три развернулись полицейским разворотом, то есть задним ходом. Пехота же продолжала огрызаться, проникая в заросшие бурьяном сады, словно дразнила близким присутствием.
Когда их начали оттуда выбивать, чтобы не путаться в бурьяне, враги мало-помалу просочились на улицу и отступали, прижимаясь к палисадникам, словно по невидимой линии, за которую не могли заступить. Их поведение никого не насторожило, и только когда под ногами наших авангардных бойцов начали взрываться «лепестки», была дана команда на отход, но было уже поздно: несколько бойцов и среди них Прибылой, корчились перед палисадниками, с запозданием сообразив, что их развели как лохов.
Семён увидел почти незаметный в опавшей листве «лепесток» в последний момент, и по траектории на него должен наступить Безруков, бежавший рядом. Что-то говорить и объяснить Антону было поздно и единственное, что Семён сделал автоматически ‒ это шибанул рядового калашом, отчего тот кувырнулся в другую сторону от мины, в тот момент даже не понявши, от чего спасся. Потерял равновесие и Прибылой и, чтобы не оступиться, шагнул в другую сторону и сразу же его опрокинул удар в левую ногу. От неожиданности он не успел понять, как оказался на траве, и только по развороченному берцу всё понял. Боли почти не чувствовал, она была лишь в первый момент ‒ словно огромной иглой вонзилась в ступню и выше во всю ногу, и перехватило дыхание. Ощущение было такое же, как и в апреле, когда получил ранение так же в левую ногу. Сначала ничего не сообразивший Безруков потирал ушибленное плечо, а Семён, изогнувшись, достал аптечку, вколол обезболивающее, а ногу ему перетянул жгутом подскочивший Толян.
‒ Как тебя угораздило! ‒ возопил он. ‒ Куда глядел-то?!
‒ Мины тут насыпаны, сам под ноги смотри.
‒ Из-за меня он попал, ‒ наконец понял Безруков, что произошло. ‒ Меня оттолкнул, а сам не уберёгся.
Семён не стал комментировать, лишь попросил помочь подняться. Ему в этот момент было не столько больно, сколько обидно и тревожно, когда коротко глянул на развороченную ногу со стекавшей по ошмёткам берца кровью. Кочнев, подхватив под руку товарища-командира, развернулся в обратную сторону; побледневший лейтенант Комраков бегал в это время от одного раненого к другому, пытаясь помочь.
‒ Да не носись ты вдоль палисадников! ‒ крикнул ему Семён. ‒ Суки укропские «лепестков» набросали.
Осознав свою промашку, бойцы аккуратно вышли на асфальт и шли, практически не маскируясь. Из их роты раненых набралось семеро: шестеро из них подорвались на «лепестках», а у седьмого было разворочено бедро. Всех несли, по двое сцепив руки. И нужно было дойти до крайних дворов деревни, где за полуразбитым сараем стояла медицинская «буханка» и суетились два фельдшера. Бледных раненых сразу рассадили в машине, фельдшеры на ходу принялись разрезать и сдирать с них берцы, окровавленные лохмотья носков, заново перетягивать голени жгутами, начали обрабатывать раны. У кого они были сильными, просто собирали ошмётки из сухожилий в клубок, бинтовали, и бинты тотчас пропитывались кровью и, казалось, распухали; защищая от грязи, их обматывали пакетами.
Машина с ранеными остановилась недалеко от блиндажа комроты, оттуда выглянул старшина, сильнее обычного косолапя, переписал всех пострадавших пофамильно, вскоре вынес пакеты с документами, смартфонами и зарядками. Он принял от них оружие, снаряжение.
‒ Держитесь, парни! ‒ сказал старшина, ни к кому не обращаясь конкретно, и было видно, что и он переживает.
К Семёну подскочи Толян, попросил, чуть ли не плача:
‒ Не пропадай! А я при первой возможности свяжусь с тобой!
Подошёл и Безруков:
‒ Держись, Семён! ‒ и слегка похлопал по плечу. ‒ На всю жизнь твой должник!
Через час раненых доставили в полевой госпиталь, где, проверили давление, неврологические реакции, сняли кровеостанавливающие жгуты. Хирург осматривал стопу Семёна и давал команды медсестре. Прибылой лежал на столе и слышал позвякивание инструментов, сопение доктора. Более всего Семёна интересовало в этот момент тяжесть травмы и последствия ранения. Надеясь, что хирург даст хоть какое-то объяснение, он не дождался от него ни слова, и тогда спросил сам:
‒ Доктор, что там у меня?
‒ Ранение…
‒ Опасное?
‒ Любое ранение опасное, если его не оперировать и не лечить… Вам повезло, что взрывная волна прошла по касательной, лишь разрушив четвёртый палец и мизинец. Они восстановлению не подлежат, так как самоампутировались, третий и второй ‒ вывихнуты, но сохранился большой палец, а это значит, что не нарушен свод стопы, и она будет сохранена, если правильно лечить и восстанавливать после ранения, и поменьше говорить. Мы всё сделали, что можно сделать в полевых условиях, чтобы не развивался некроз. Сейчас вас отправят в тыловой госпиталь, где продолжат лечение, а мне остаётся пожелать скорейшего выздоровления.
Хотя врач и упрекнул Семёна в болтливости, но говорил в основном он сам, и не зря. После его достаточно подробного разъяснения ушли мрачные переживания, навалившиеся сразу после ранения, когда в воображении всплывали не лучшие картины предстоящей инвалидности.
Вскоре раненым выдали костыли, завели в автобус, где половина мест оказалось переоборудована для лежачих, и почти все они были заняты. Подошла ещё «буханка».
Вновь прибывших рассортировали, нескольких оставили, а остальных добавили на свободные места в автобусе, два из которых были забронированы для сопровождавших врача и фельдшера. Когда они пришли, обвешанные сумками с приборами, аптечками, и пересчитали раненых, устроив перекличку, водитель принёс две упаковки бутилированной воды.
Ехали молча, тишина прерывалась лишь от чьего-то стона на ухабах. Большинство же раненых молчаливо переносили дорожные лишения, лишь морщились и скрипели зубами, просили сделать обезболивающий укол. Ехали с закрытым глазами, и можно было подумать, что все спят, но никто не спал, все терпели боль и молча обдумывали своё положение, в мгновение изменившееся после подрыва мины или пулевого ранения. Один не утерпел, достал смартфон и начал радостно трепаться, что, мол, ему повезло с ранением, он едет в госпиталь. Когда устали его слушать, кто-то сказал:
‒ Мужик, заткнись, а то не доедешь!
Болтун ничего не ответил, благоразумно промолчал, и это правильно, потому что всем хотелось поговорить с родными и близкими, но состояние духа не позволяло плакаться и пугать их, когда до конца ничего не известно. Семён имел такое же мнение. «Вот доберусь до госпиталя, отосплюсь, тогда и позвоню. А сейчас чего языком трепать, когда на это нет ни сил, ни желания».
Все думали, что их повезут в Ростовский госпиталь, но когда автобус добрался до трассы «Дон» у Богучара, то вспомнили о местном госпитале при дивизии, но нет, автобус просквозил далее, пошёл шибче, хотя надвигались сумерки, и теперь у всех было на уме и на устах одно слово: Воронеж. Один сделал такое предположение, другой горько пошутил, если это можно назвать шуткой:
‒ В столицу бы хотелось, но не доедем ‒ некроз начнётся!
Врач тотчас пресекла острослова, хотя его никто и не слушал:
‒ Прекратите болтать о том, о чём не имеете понятия. ‒ И обратилась к раненым: ‒ Не обращайте внимания, у бойца явно нервное перевозбуждение. ‒ Добавила, уже для говоруна, немного сглаживая собственную резкость: ‒ Не надо будоражить ребят, и так все на взводе. Сами понимаете.
Раненые, терпя боль и неудобства, находясь в полусонном состоянии, нагрузились тревожными мыслями, попытками угадать или предвидеть собственное будущее. Семён тоже дремал, и в его сознании проплывали картины встречи с дочкой, родителями, Людмилой… Когда он подумал о ней, то показалось, что она мелькнула и исчезла из жизни давным-давно, и теперь предстояло заново налаживать отношения. Вспомнил Виолку, вот ей труднее всего, она какой месяц находится в неведении. Можно представить, как она терзает Маргариту вопросами о маме, папе, и что ей может сказать бабушка, как объяснить, где её родители? Вспомнил он и мать с отцом, представил, каково им ожидать весточку от сына. И если отец виду не подаст, что переживает, то мать будет слезьми исходить каждый день… В конце концов Семён задремал, а проснулся, когда автобус въехал в ворота госпиталя, занимавшего старинное здание. Прибыли! Напоследок распрощались с сопровождавшим врачом и фельдшером, поблагодарили водителя и, цепляясь за кресла костылями, выбирались на волю, где не стреляют, не свистят мины и не рвутся снаряды. Всех прибывших ожидали каталки с волонтёрами.
После оформления, осмотра их заворачивали в санпропускник. На костылях бойцы чувствовали неуверенно. Остерегаясь оступиться, просили волонтёров взять под руку. Долго и неуклюже раздевались, стягивая с себя одежду, превратившуюся в окопах в землистого цвета дерюгу ‒ тяжёлую и сальную. Волонтёры, проверив карманы, присобачивали к ней бирки с номерами и бросали в общий, пугающий фронтовыми «ароматами» ящик, а раненых тут же стригли наголо. Потом волонтёр, упаковав и замотав Семёну раненую ногу в пакет, крепко обвязав его скотчем, провёл в душевую кабинку, продолжая поддерживать, включил тёплую воду… Прибылой будто никогда не знал, что существует такое блаженство ‒ наслаждение под душем, когда можно забыть обо всём на свете. После двух месяцев бесконечного пота, простуды, промокших холодных ног и соплей напитываться теплом под ласковыми струями, согревавшими саму душу, казалось бесподобным фантастическим сном. Но волонтёр всё испортил, напомнив, что с повышенной температурой нельзя долго нежиться. Пока Семён мыл голову и тело, то молчал, но теперь захотелось ответить волонтёру, которому, надо думать, до чёртиков надоели раненые, и которому трудно понять, что такое оказаться в этом положении, и он сказал будто для самого себя:
‒ Хорошего много не бывает.
Выбравшись из кабинки, он вытерся полотенцем, надел неправдоподобно чистое бельё, пижаму и брюки. И сразу его повезли в операционную, где вновь раздели, уложили на стол, опять, как и в апреле, обездвижили низ, и он впал в эйфорию, кружившую голову. Никто ему ничего не говорил, не спрашивал, словно жалели слова или устали от них. Да ему и не были нужны ничего не значащие реплики, хотелось тишины, покоя и тепла в прохладной операционной… Наполненного этими мыслями его отвезли через час в палату, переложили с каталки на неправдоподобно чистую постель, где он вскоре заснул, с запозданием подумав: «Вот я и на месте!».
38.
А далее всё пошло проще и привычнее. Какой-никакой, а госпитальный опыт у Семёна имелся. Проснувшись ночью от боли, когда ослабла анестезия, он вызвал медсестру, попросил сделать обезболивание и, получив его, попил воды и вновь окунулся в сон, и спал без сновидений, словно беззаботный ребёнок. Сумбурные сны и видения, как давно понял Прибылой, приходят, когда человек, уставший от безделья и придуманных забот, мается душой, когда он может во сне разогнать пульс до ста, а проснуться в поту. Спроси его в такую минуту: «Что с тобой? Что случилось?» ‒ он ничего вразумительного не скажет, а лишь осовело оглядится и вновь уткнётся в подушку.
Прибылой счастливо поспал до той минуты, когда медсестра пришла мерить температуру и, померив, забрала склянку с анализом. Позже пришла другая сестра, взяла кровь из вены. Потом ему сделали несколько уколов, и он перестал запоминать, кто и что делает: нужно вам ‒ колите! Другое его занимало в эти минуты: завтрак! Семён, едва проснувшись от толчка медсестры, вспомнил, что за весь вчерашний день не держал во рту и маковой росинки, а теперь, когда более или менее поспал, свыкся с затихающей болью, вспомнил о голоде. Вернее, он напомнил о себе сам. Поэтому Семён быстро слизнул овсянку с тарелки, когда её поставили на тумбочку, проглотил кусок хлеба с маслом, хотел попросить добавки, но тележка с едой уехала, громыхая, в следующий палату. Ну, ничего, и так жить можно. Он выпил таблетки и откинулся на подушку, почувствовав усталость, принялся рассматривать раненую ногу с просочившейся сукровицей сквозь повязку и шиной на стопе в виде «лаптя» с липучками. «Вот это прикид!» ‒ усмехнулся Семён и огляделся; заметив среди других больных два знакомых лица, удивлённо воскликнул:
‒ Привет однополчане, не узнаёте лысого и в пижаме?! Мы же вместе сюда пылили!
Пацаны посмотрели на него, стараясь припомнить, что было трудно после смены «имиджа», и улыбнулись:
‒ Во, вся вторая рота собралась! Под хороший мы попали замес!
‒ Теперь кто-то либо звёздочку на погоны добавит, либо кого-то в рядовые разжалуют.
‒ Ну, это вряд ли… Не любят у нас этого. В другое подразделение переведут, не более.
Сегодня они уже могли легко вспоминать подробности вчерашнего боя, лишь один боец нелюдимо отвернулся к стене и не принимал участие в болтовне. Семён, указав на него взглядом, молча спросил: что с ним? Вслух Семёну не ответили, лишь показали, что оттяпали ему стопу ‒ вот и замкнулся… Их короткое обсуждение прервалось врачебным обходом. Два врача, как Семён понял, лечащий и начальник отделения, подходили к каждому раненому, спрашивали о самочувствии, изучали снимки, интересовались у медсестёр температурой и давлением больных, на что те отвечали, что, мол, всё штатно, жалоб нет, а пожелание у всех одно: час-другой поспать перед обедом, хотя бы немного наверстать упущенное. Как-то только закончился обход, все в палате дружно повернулись к стене и дали храпака.
Никто не знал, от кого это пошло, но к концу дня их палату стали называть «Палатой лепесточников», но обитателей её это особенно не волновало. Вслух они свои потаённые мысли не высказывали, но в душе каждый благодарил Бога за то, что относительно легко отделался, только о мыслях одного, которого пока даже не знали как зовут, ничего не было известно, если он по-прежнему отмалчивался. Молчал даже и тогда, когда, приглушив голоса, вместо послеобеденного тихого часа начали названивать родным. Семён никогда не любил прилюдных телефонных разговоров, но здесь был не тот случай, и он решил позвонить хотя бы по двум-трём номерам. Сначала хотел удивить дочку, но мысль о том, что Маргарита не позволит толком поговорить с Виолкой, начнёт либо жаловаться на что-то, либо кого-то клеймить, а Семёну так не хотелось в этот момент слышать чужие дрязги, что он первым активировал телефон мамы, представив, как она сейчас радостно переполошится, да и чего-то иного трудно ожидать в такой момент от любой матери. Это и произошло.
‒ Ой, ой ‒ сынок объявился!.. ‒ Она хотела ещё что-то сказать, но завсхлипывала, непонятно запричитала и не могла остановиться.
‒ Мамуль, ну, успокойся… Вот и дождалась, услышала. У меня всё хорошо.
‒ Ты где?
‒ В госпитале, мам. С лёгким ранением.
‒ А говоришь, что всё хорошо, а сам с ранением. Какое место ранило?
‒ Ранения всякие бывают, мам. Ногу зацепило. Как вы там?
‒ Да все глаза проглядели, с телефоном не расстаёмся ни днём, ни ночью. Уж не знали, что и думать. А ты сам объявился! Ой, счастье-то какое. Радость-то какая! Ты где же находишься-то?
‒ В Воронеже, мам.
‒ Ой, это недалеко ‒ можно приехать.
‒ Пока никуда приезжать не надо. Вот немного оклемаюсь, тогда видно будет. Как вы-то там, как папа?
‒ Он работает, я тоже на работе. Недавно вышла, а перед этим в больнице лежала ‒ ты знаешь: делали операцию по удалению грыжи на позвоночнике. Теперь можно сказать, что оклемалась, а то ни еду приготовить, ни в доме убраться не могла. Оля помогала, каждый день приходила.
‒ Это какая Оля?
‒ Сынок, ты чего? Невестка наша, о тебе часто спрашивала: нет ли весточки. Пыталась звонить, да только телефон твой постоянно отключен.
‒ Мам, у всех так… Как у отца дела?
‒ Нормально, работает, о тебе переживает. Сейчас сообщу ему, обрадую!
‒ Не надо, мама… Сам позвоню. Сделаю сюрприз.
Вера Алексеевна вздохнула:
‒ Звони, сынок, звони. Если бы ты знал, как я счастлива, когда слышу твой голос. Как я счастлива!
‒ Тогда, мама, пока. Целую тебя и обнимаю. Ещё наговоримся. До скорой встречи. Сейчас папе позвоню.
Семён передохнул, прокрутил весь разговор, вспоминая каждое слово матери, и вдруг почувствовал, что и сам готов заплакать от всего того, что испытал за два месяца после мобилизации. Всего за два месяца! И сколько таких месяцев будет ещё у тех, кто остался на фронте, кто ютится в эти минуты в окопах и блиндажах. Со стороны глядя, это и представить невозможно, только побывав там хотя бы день, час или даже минуту, можно понять, что это такое ‒ фронтовая жизнь. Передохнув, попив водички, Семён высветил номер отца и, когда он взял трубку, сказал три слова:
‒ Папа, это я!
‒ Слышу, слышу, дорогой сынок! Ты где?
‒ В госпитале: живой и почти невредимый.
‒ Где лежишь, с каким ранением?
‒ В Воронеже бездельничаю, ногу зацепило…
Семён долго говорил с отцом, а когда разговор закруглили, Иван Семёнович спросил:
‒ Маме звонил?
‒ Звонил…
‒ Ну и хорошо. А то хотел её порадовать!
‒ Ещё успеете наговориться. До созвона. Целую и обнимаю, ‒ попрощался Семён и услышал, как отец глубоко и по-особенному радостно вздохнул.
Поговорив с родителями, Семён почувствовал себя страшно усталым. Поставил смартфон на подзарядку, закрыл глаза, прилёг. Спать не собирался, зная, что надо позвонить дочке, услышать её голос, и сделать это так, чтобы поменьше втягиваться в разговор с Маргаритой. Наверняка, у неё накопилось множество вопросов и она переложит их на него; он давно заметил, что при живом муже она никогда не напрягала, потому что все вопросы тот решал сам, а она, если вмешивалась, то только тогда, когда результат был известен, ‒ и всегда выходило так, что без её мнимого вмешательства ничего положительного не произошло бы.
Понимая, что без дела лежать бесконечно невозможно, зная, что дочка ждёт его звонка, он связался с Маргаритой и, услышав её голос, почти не узнал. Зато она сразу его определила:
‒ Вот и зятёк ненаглядный вспомнил о нас?! И где же вы, уважаемый Семён Иванович, пропадаете?
‒ В госпитале…
‒ Опять на больничной койке? С чем на этот раз?
‒ Ногу зацепило. Как вы поживаете? Как Виолка?
‒ Простужены обе. Так что сидим дома, лечимся народными средствами… ‒ Если бы Семён мог видеть разговор с Маргаритой со стороны, то увидел бы, как его Виолка, отложив куклу, укладываемую спать, насторожилась, подошла к бабушке и попыталась понять, с кем так необычно разговаривает она. ‒ Ну, а ты-то давно попал к врачам?
‒ Вчера… Так что у меня всё впереди.
‒ Всё так серьёзно?
‒ Серьёзно ‒ не серьёзно, а на костылях прыгаю.
‒ Ну что, что? ‒ донеслось до Семёна Маргаритино недовольство. ‒ Твоя доча трубку отнимает, рвётся поговорить с папой!
‒ Папочка, это ты? Жду-жду, а тебя всё нет и нет! Когда закончится твоя командировка?
‒ Почти закончилась. Ещё немного, и мы увидимся!
‒ Я очень скучаю и… ‒ Она не договорила, завсхлипывала, и Маргарита принялась сердито успокаивать её.
‒ Виола, не плачь, ты же большая, понимаешь, что иногда взрослые уезжают на работу, а потом возвращаются. Вот и я завершу необходимые дела и приеду. Тогда будем говорить сколько угодно, а потом пойдём гулять и купим пончиков в сахарной пудре и наедимся до отвала. Договорились?
‒ Да, папочка! Приезжай скорее, я буду тебя очень ждать.
Семён решил, что разговор завершён, но трубку взяла Маргарита, и сразу с вопросом:
‒ А почему ты не спросишь, как мне живётся, сколько тягот приходится переносить, нападок и лжи.
‒ О чём речь?
‒ Понимаю. Тебя это особенно не касается, а меня бывшие дружки мужа достали. Они от известного тебе ушлёпка Подберёзова узнали, что я ему вернула деньги, поверив на слово, сделала, можно сказать, исключение, а он взял и всем рассказал. И теперь несколько человек подали на меня исковые заявления, в суде их объединили в одно дело, и теперь предстоит разбирательство. При моём адвокате понятно, что они получат шиш без масла, но ведь нервы-то мотают, и каково всё это терпеть, ведь я далеко не девочка.
‒ Адвокат-то надёжный?
‒ Надёжней не бывает. Ещё с Германом Михайловичем работал: и специалист прекрасный, и душа-человек ‒ Виолку подарками задарил.
Прибылой насторожился от слов Маргариты об адвокате, о его подарках дочке, сразу стало понятно, что неспроста он подкатывает к вдове. А что: недвижимости у неё много осталось от мужа, почему бы не поживиться. А для этого можно и на чужого ребёнка немного потратиться. Зато какое доверие будет. К тому же, если дарит, значит, бывает у Маргариты дома, гоняют чаи и всё такое прочее, а несчастная Виолка смотрит на это. Поэтому она и заплакала, услышав отца. «Вот излечусь и обязательно заберу к себе! Отец я или кто?» ‒ решил он.
‒ Ну и дай бог, если поможет и есть к нему доверие, ‒ не стал раскрывать своих мыслей Семён. ‒ От Ксении нет известий?
‒ Как в воду канула. А вот её Максима в городе видели, раскатывает на дорогой машине.
‒ Вот это номер?! Кто это сказал?
‒ С работы Ксении звонила её подруга, сообщила, что видела его, не могла ошибиться. Я всё-таки позвонила его матери, хотела навести справки, хоть что-то узнать, но никто трубку не взял, что тоже настораживает.
‒ Вот это фокус! Теперь понятно, если его действительно видели, почему его мать не желает с вами говорить. Значит, она в курсах и что-то скрывает. Это дело нельзя так оставлять.
‒ Я рассказала об этом Роману Осиповичу, моему адвокату, он навёл справки по своим каналам и узнал, что этот Максим, как и Ксения, числится в пропавших без вести, и в этой связи заведены уголовные дела, но официально подтвердить их бесследное исчезновение можно лишь через год в суде. Но занимаются ли расследованием ‒ вопрос?
‒ Признаться, я ошарашен! На фронте будь здоров дела, а у вас тут тоже не хилые. Надо написать новое заявление следователю, что, мол, так и так, видели в городе этого самого Максима. Пусть его найдут, допросят: почему он живой и на свободе, а Ксения как в воду канула. Уж не причастен ли он ко всему этому. Я думаю, что причастен. Надо что-то делать!
‒ А что можно делать? Я звонила следователю, он лишь отмахнулся: мало ли кому что-то привиделось? Фактов, что он пересекал границу, у них нет, а если нет, то и расследовать нечего. Так что остаётся ждать и более ничего. А ты поскорее выздоравливай и возвращайся, хоть немного поможешь мне.
‒ Договорились. Как говорится, дайте только срок.
Он ещё немного поговорил с дочкой, поцеловал её заочно и завершил разговор, почувствовав себя смертельно уставшим, понимая, что ещё на один разговор, с Людмилой, его не хватит. Он лёг, закрыл глаза, собрался подремать, но сон теперь не шёл из-за потока нахлынувших сообщений. Два месяца прошло после его мобилизации, а столько всего произошло в Заречье, что голова кругом пошла. И не понять, чего ещё ждать впереди.
Людмиле он позвонил перед ужином. Трубку долго не брали, а когда он услышал масляный голос Серёжкиной, то сразу понял, что позвонил некстати.
‒ О, кого я слышу?! Девочки, тише, мой Сёмка нашёлся! Сёма, ты где? Навоевался?
От её пьяного голоса в душе Прибылого всё перевернулось. Он даже пожалел, что позвонил, но теперь уж деваться было некуда.
‒ Да, это я! Хочу сказать, что со мной всё в порядке. Как у тебя дела?
‒ А мы сегодня у подружки собрались, отмечаем её день рождения. Жалко, что ты не с нами!
‒ Не всё потеряно… Будет и моё время, ‒ не стал он раскрывать своё нахождение. ‒ Рад был услышать твой голос, убедиться, что всё хорошо.
‒ Возвращайся скорее, я так по тебе соскучилась… Да подожди ты, Илья, ‒ сказала она кому-то, ‒ не видишь, по телефону говорю! Так что, Сёмочка, я тебе позвоню в ближайшие день-два, а сейчас не могу долго болтать. Пока, до встречи!
Он ничего не ответил, отключил телефон: «Можешь не звонить, зачем зря стараться». А чтобы совсем вычеркнуть из души, добавил её номер телефона в чёрный список. И не пожалел, и мысли такой не было, мол: «А не поспешил ли? Нет, не поспешил, всё надо делать вовремя!».
39.
Семён не знал, кто такой Илья, что он делает рядом с Людмилой, но ведь это неспроста, если она так легко покрикивает на него. С малознакомым человеком так не ведут себя ‒ это очевидно. «Так что моя стрекоза зря времени не теряла!» – усмехнулся он, и почему-то от усмешки стало спокойнее. Если бы Семён знал, что через неделю после его отправления с полигона в действующую часть Людмила случайно встретила в центре Заречья знакомого Илью-журналиста, и ей пяти минут разговора хватило, чтобы вспомнить весенние с ним отношения, то по-иному бы отнёсся к теперешней ситуации. В тот момент она вдруг поняла, что Прибылой теперь далеко-далеко, и не факт, что вернётся живым и здоровым. И что ей делать в таком случае: ждать, надеяться неизвестно на что? А она молодая, ей жить хочется по-настоящему, а не сохнуть от ожидания. Поэтому так легко и переметнулась по новому адресу, ничего не говоря родителям о том, где иногда ночует, так как отец ещё недавно и на дух не переносил её кучерявого ухажёра. Она, используя свободный график работы Ильи, днём встречалась с ним у него на квартире, которую он неожиданно купил совсем недалеко от Людмилы. Вот так: то углы снимал, а то вдруг квартира! Уметь надо! Правда, «однушка», но квартира же! Поэтому Людмила, можно сказать, и не соврала Маргарите, когда случайно сказала о своём предстоящем замужестве. Пока она не думала об этом, но всё возможно. Почему нет?
Чувствуя всё это, Семён не жалел, что заблокировал её номер. Чего уж теперь звонить и пребывать в неведении, тешиться пустыми надеждами. Жалко только, что чувства свои оголял, выставлял будто напоказ, да и как их можно скрывать, когда всё так стремительно закружилось. И теперь так же стремительно оборвалось. Настроения это, конечно, не прибавило, но и в унынии он находился недолго. Услышав суету нянечек в коридоре, он встряхнулся, попытался настроить себя на иной лад, и первое, что сделал, ‒ окликнул замкнувшегося бойца, догадываясь, что с ним что-то не так.
‒ Парень! ‒ осторожно обратился к нему.
Тот и не пошевелился. Тогда Семён, подобрав костыли, поднялся, подошёл к нему, потормошил за плечо:
‒ Ужин везут! Как тебя зовут-то?
Тот не отозвался, лишь немного повернулся, чтобы посмотреть, кто к нему обращался, и вновь отвернулся. Немного подумав, вздохнул:
‒ Николаем…
‒ Вот и хорошо. А я ‒ Семён. Ты из какой роты?
‒ Из третьей.
‒ Из третьего батальона?
Тот кивнул.
‒ Тогда мы однополчане… Хватит хандрить! Мы тут не просто так собрались, а каждый со своей болячкой. Посмотри на ребят: ещё день-два ‒ и отоспятся, окончательно оттают, а ты так и будешь стену глазами сверлить. Домой позвони, поговори с родными ‒ всё легче на душе станет.
‒ Что им скажу, чем обрадую?!
‒ Хотя бы тем, что живой! Разве этого мало?
‒ Звонить не с чего… В роте мой телефон пропал.
‒ Проблему придумал. Бери мой, хоть обзвонись.
Семён взял телефон, положил на тумбочку Николая.
‒ Спасибо! После ужина позвоню родителям.
Семён хотел спросить о девушке или жене, но не спросил. Пусть сам позвонит, кому посчитает нужным.
После этого разговора, Николай, осторожно передвигая забинтованную ногу, сел на кровати, внимательно посмотрел на Семёна, словно запоминая, спросил:
‒ Откуда родом?
‒ С Волги, из Заречья. Слыхал?
‒ Я там служил. А сам с Рязанщины, с речки Прони.
‒ Недалеко от нас, считай, земляки.
‒ Да уж… На карте всего-ничего. ‒ Николай посмотрел на Семёна, указал глазами на забинтованную ногу в «лапте». ‒ Тоже, что ли, «лепесток»?
‒ Он самый. Мы все тут «листопадники».
Рязанец ещё что-то хотел сказать, но дверь палаты распахнулась и румяная нянечка торжественно, словно с трибуны, провозгласила:
‒ Мальчики, ужин приплыл!
Она разнесла по тумбочкам тарелки с картофельным пюре, порцией рыбного филе и двумя кусками хлеба, налила в стаканы чаю, на салфетки положила печенье, улыбнулась:
‒ Ни в чём себе не отказывайте, дорогие!
Вскоре она повезла тележку к следующей палате, но оставила своё доброе отношение и настроение, и не зря, если даже Николай зашевелился. Семёну показалось, что он впервые по-настоящему поел. А то поставят перед ним тарелку, он ложку-две хлебанёт ‒ и в сторону. Или кусок хлеба прихватит и жуёт потихоньку, буравя стену полузакрытыми глазами. А теперь повеселел, стал рассматривать однопалатников, а когда поужинал, спросил у Семёна:
‒ Ну так что, можно позвонить?
‒ Да хоть обзвонись. Он у меня безлимитный.
Николай взял телефон и, всё-таки стеснительно отвернувшись к стене, набрав номер, сказал:
‒ Мама, это я…
Говорил он тихо, словно стесняясь своих слов, но Семён и не пытался слушать чужой разговор. В мыслях он вернулся к Людмиле, всё-таки переживая о своём, быть может, поспешном решении заблокировать её номер, но ведь и она хороша. Даже если неведомый Илья ‒ это, например, муж подруги, то почему она сразу закруглила разговор?! Значит, не могла открыто говорить, было что скрывать и умалчивать. А если умалчивает, значит, почуяла кошка, чьё мясо съела… Разные мысли боролись в Семёне, и он всё-таки решил, что был прав, поступив резко, без возврата. Как говорится, умерла так умерла. Осталось погоревать немного и окончательно забыть. И ещё подумал о том, что правильно поступил, не став ныть, рассказывать о себе. Пусть знает, что с ним всё в порядке, он бодр, весел и вообще молодец!
Обозначив для себя установку, он почувствовал, что и дышать стало легче. К следующему утру он почти забыл вчерашний разговор с Людмилой, да и чего его вспоминать, если после врачебного обхода обозначилась иная забота, когда, заглянув в палату, незнакомая медсестра сердито объявила:
‒ Прибылов, на перевязку!
Семён хотел поправить её, напомнить правильное произношение своей фамилии, но не стал баламутить ни себя, ни медсестру, видимо, вставшую не с той ноги, а что это значит, вполне можно предположить. Разобрав костыли, он поднялся и заковылял в перевязочную. Когда медсестра предупредила: «Осторожнее, не спешите!» ‒ он подумал: «Не всё потеряно!». Поэтому, усевшись на кушетку, пользуясь вспышкой доброты с её стороны, спросил, помня апрельский опыт:
‒ Заморозку будете делать?
‒ А вы как думаете?
‒ Думаю, будете…
‒ Правильно думаете, товарищ Прибылов.
То ли случайно, то ли так было запланировано, но как только медсестра распеленала ногу, промокая тампоном сукровицу, в перевязочную вошёл врач. Он осмотрел со всех сторон рану, спросил фамилию.
‒ Всё у вас штатно, сержант Прибылой! Осложнений нет, большой палец сохранён, а это каркас стопы, её опора вместе с пяткой. Месячишко потренируетесь с костылями, потом с тростью пофорсите, а потом вообще забудете о ранении. Правда, бегать-прыгать теперь не обязательно. Да и зачем это вам. Вы своё отбегали. Кем работали до мобилизации?
‒ Мастером по ремонту на автобазе.
‒ Самая для вас теперь будет работа. Так что не вешайте носа, всё будет хорошо.
‒ Спасибо, доктор!
Когда тот ушёл, медсестра вздохнула:
‒ Извините меня, пожалуйста, что неправильно называла вашу фамилию.
‒ Ерунда, не переживайте ‒ мне не привыкать.
Возвращался в палату Семён в хорошем настроении. Радовало два момента: неформальная общительность доктора, его шутливо-ироничное настроение, а также «покаяние» медсестры. Мелочь, конечно, но чванливый и высокомерный человек никогда не снизойдёт до такого «унижения», чтобы признать свою копеечную ошибку, а она ‒ запросто. Всё это мелочи в череде житейской жизни, но как они порою влияют на настроение, что особенно ценно для тех, кто попал в это гостеприимное учреждение. Госпиталь, действительно таковым и является, кто бы что ни говорил и как к этому факту ни относился. Ведь люди все разные. А раненые, попавшие в беду, ‒ особенно. Для кого-то это надежда на лечение и выздоровление, для кого-то ‒ казённые стены и крушение всех или почти всех задумок, здесь уж всё зависит от человека, его внутреннего настроя. Не утеряна жажда борьбы за свою жизнь, за своё будущее ‒ всё будет видеться в розовом свете; угнетён человек, а не дай бог, озлоблен, то соответственно всё так и будет воспринимать, а свой негатив, пусть даже не преднамеренно, выплёскивать на окружающих, в данном случае, таких же товарищей по несчастью. И кому от этого хорошо? Никому, а плохо всем. И пример этому в их палате у всех на виду. Пока Николай отстранялся, замыкался в своём горе, то его негатив давил на всех, а как стряхнул себя уныние, так и сам задышал по-иному, и другие.
Семён смотрел на него и радовался, что тот превозмог себя, победил страшное ранение, но ведь на этом жизнь-то не закачивается, и здесь главное, как настроиться, как быть примером, прежде всего для себя. В какой-то момент Прибылой вспомнил слова, часто повторяемые отцом, услышанные им в передаче «Играй, гармонь!», которую любил, сам играя на гармони. В передаче часто звучала песня, где используют изречение старца Амвросия. Когда его спрашивали, как, батюшка, жить, то он отвечал с усмешкой, но вкладывая в слова особенный смысл: «Жить ‒ не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать, и всем моё почтение».
Вспомнив это, Семён подумал, что это и есть формула примирения для людей, доброго и уважительного отношения. «Но только с теми, кто сам миролюбив!» ‒ решительно добавил он. Потому что по-иному не мог, находясь в госпитальных стенах.