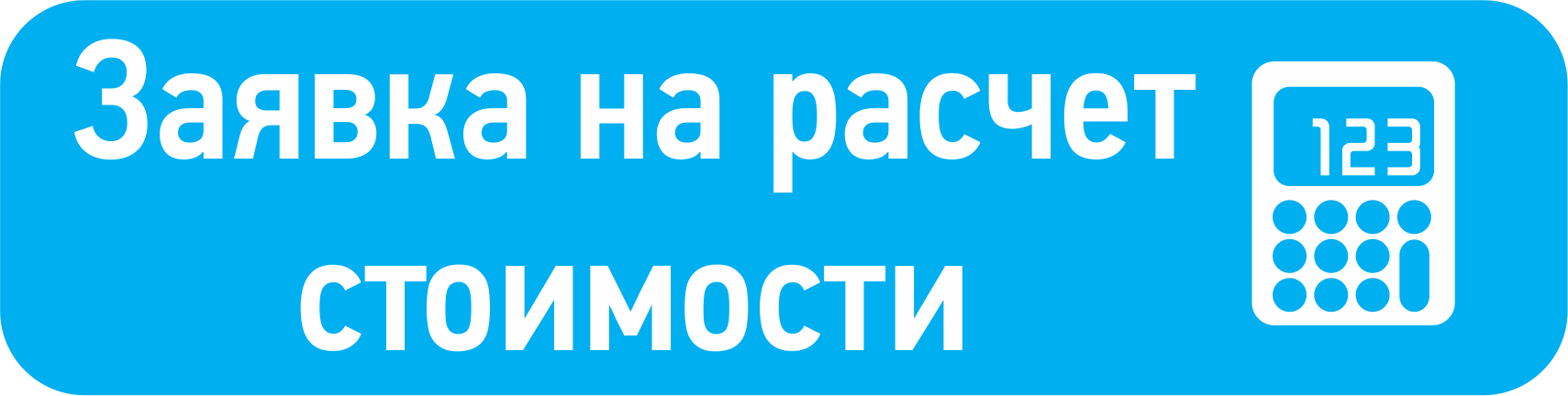Жизнь Ольги Прибылой нельзя назвать какой-то особенной: обычная жизнь вдовы. Сама Ольга в меру современная, в меру замкнутая, потому что обладала характером мягким, не стяжательным, для неё сказать кому-то что-то грубое ‒ себе дороже. Ведь потом вся изведётся. Она даже не могла по-настоящему приструнить сына, когда это следовало сделать. Скажет только: «Мне стыдно за тебя…». И ни истерики, ни слёз. Лет до одиннадцати Женька не понимал такого отношения, даже пользовался, считал слабостью материнскую мягкость, а потом в нём будто что-то щёлкнуло. Случилось это недавно, когда Семён подарил велосипед. Обещал ‒ и подарил, и денег дал на форму к школе, что его особенно удивило. Ведь не отец родной, а дядька. Какой с него спрос?! Женя хорошо запомнил, что и мама изменилась, даже переживала, когда его мобилизовали. И если прежде называла его дядей Семёном, то теперь просто Семёном.
Жизнь Ольги Прибылой нельзя назвать какой-то особенной: обычная жизнь вдовы. Сама Ольга в меру современная, в меру замкнутая, потому что обладала характером мягким, не стяжательным, для неё сказать кому-то что-то грубое ‒ себе дороже. Ведь потом вся изведётся. Она даже не могла по-настоящему приструнить сына, когда это следовало сделать. Скажет только: «Мне стыдно за тебя…». И ни истерики, ни слёз. Лет до одиннадцати Женька не понимал такого отношения, даже пользовался, считал слабостью материнскую мягкость, а потом в нём будто что-то щёлкнуло. Случилось это недавно, когда Семён подарил велосипед. Обещал ‒ и подарил, и денег дал на форму к школе, что его особенно удивило. Ведь не отец родной, а дядька. Какой с него спрос?! Женя хорошо запомнил, что и мама изменилась, даже переживала, когда его мобилизовали. И если прежде называла его дядей Семёном, то теперь просто Семёном.
Но сама-то Ольга знала, что изменилась в своём отношении к нему не после покупки им велосипеда, а когда он провожал их с Женькой. И что с ней тогда произошло, как она осмелилась ни с того ни с сего поцеловать деверя ‒ так тогда и не поняла. А ведь прилюдно поцеловала ‒ у подъезда, и совсем не жалела об этом. На неё это совсем не походило, но это было так. И тот поцелуй она запомнила. Хотя Семён, похоже, не обратил на него внимания. Видимо, посчитав обычной благодарностью за доброе отношение.
Он, конечно, не знал этого, но, когда его мобилизовали, Оля восприняла это близко к сердцу. Месяца четыре уже прошло, когда она приходила в гости к тёще и тестю, которые тогда организовали вечер по случаю отъезда Семёна в Заречье, а ей казалось, что это всё произошло словно вчера. Когда его мобилизовали, она часто пыталась дозвониться до него, но телефон был недоступен. Не зная, как это понимать, попыталась выпытать у его родителей возможную информацию о нём, но и они ничего не сказали нового, хотя свекровь даже ездила в военкомат.
И вот она узнала от свекрови, что Семён находится в госпитале с ранением ноги, и душа всколыхнулась. Сразу масса вопросов: где лежит, давно ли? Даже ничего толком не узнав, она сразу позвонила ему. Правда, без всякой надежды, что ответит, как было до этого дня, но нет ‒ отозвался и почему-то часто задышал.
‒ Семён, это ты? ‒ не поверив, переспросила она.
‒ Я, Оля, я! Спасибо, что вспомнила! А я собирался звонить тебе…
‒ Правда? ‒ удивилась она.
‒ Конечно, хотел поблагодарить за помощь маме после операции. Ты ‒ молодчина! Погоди, сейчас перезвоню…
Хотя не это хотела услышать она, но не подала виду, когда он перезвонил:
‒ Мы вместе с Женькой помогали. О тебе говорили. Мы так все соскучились. ‒ Вообще-то хотела сказать, что это она соскучилась. А почему, сама не знала. ‒ И долго будешь лечиться?
‒ Только позавчера прибыл. Говорят, недели две прокантуюсь, ‒ приврал он, хотя ему сказали, что будет «кантоваться» месяц, но не хотелось её пугать, потому что его слова обязательно дойдут до родителей. ‒ Рана так себе, можно сказать, царапина.
‒ С царапинами две недели не держат, ‒ засомневалась она. ‒ Их на месте обрабатывают и бинтуют.
‒ Суть не в этом. Главное ‒ я живой, а всё остальное ерунда. Как вы с Женькой поживаете? Какие новости?
‒ Какие у нас новости. Всё обычно. Я работаю, Женя учится. Велосипед ‒ твой подарок ‒ законсервировал на зиму. В комнате стоит, бережёт. «На балконе, ‒ говорит, ‒ заржавеет!».
‒ Не избалованный он, поэтому и бережливый. Хорошее качество. В жизни пригодится. Мотом всегда успеет стать.
Она вздохнула.
‒ Чего вздыхаешь?
‒ Да так… Соскучилась, ‒ призналась она. ‒ Только ты не подумай чего.
‒ Не думаю, а всё равно приятно. Ладно, Оль, у нас будет ещё время поговорить.
‒ А жена твоя не нашлась?
‒ Нет. И, судя по всему, не найдётся, хотя всякое в жизни бывает, но это трудная история и не хочется ковыряться в ней.
‒ Ну и правильно! Мы хорошо поговорили. Я рада. Как-нибудь ещё позвоню! Ты не против?
‒ Звони, но лучше я тебе сам позвоню как-нибудь вечерком, а то днём тут суета стоит.
‒ Тогда буду ждать. Целую!
‒ Взаимно! ‒ отозвался он и отключил телефон.
Семён совсем не ожидал от себя, что скажет: «Взаимно», но это слово прозвучало, и означало оно, что он попался в Олины сети. Уж чего-чего ожидал от этой тихони, но только не этого. «Как она меня? Чудеса и только! Молодец!». Семён давно знал, что даже самые тихие и скромные женщина иногда вдруг закипают пробивной настырностью. И это тем более удивительно, что никогда прежде он ничего не замечал за Олей подобного, а теперь её будто подменили. Всегда она была женой брата, а это ни в каких комментариях не нуждается. А когда стала вдовой, можно на всё закрыть глаза? Он пытался понять, что происходит, почему так быстро переметнулся на сторону невестки? Может потому, что обжёгся с Людмилой, и всё его существо желало мести. Если так, то это глупо. И прежде всего для него самого. И Людмила здесь ни при чём, если он давно замечал неравнодушные взгляды Ольги, но не придавал им какого-то особенного значения. А покупка велосипеда её сыну лишь стала спусковым крючком для чувств, они освободились, полетели в поисках романтики и любви. Что ж, наверное, и такое бывает. И отношения строятся у всех по-разному, с тысячью, миллионами нюансов, у каждого на свой лад. Вот и Оля… По идее-то она бы могла сто раз выйти замуж после гибели мужа, но всё чего-то выжидала, томилась, быть может, сдерживала чувства и желания, и вот пришёл такой момент, когда не хватило сил всё это глушить в себе. Ведь всему есть придел, и он, что очевидно, наступил. Даже, возможно, вопреки воле, но не чувствам, заполнившим её и переставшим быть запретными.
Всё это так, если принять её отношение, но как быть с памятью брата, как потом оправдаться, когда унесёт бурная река Лета на встречу с ним? Вопрос сложный и не было на него моментального ответа, хотя отношения с Олей могли бы помочь ей в воспитании Женьки. Это ‒ с одной стороны. А как потом, когда он вырастет, и всё будет понимать, смотреть ему в глаза. Поэтому надо сто раз подумать, прежде чем откликаться на душевные порывы невестки, что-то невообразимое вбившей себе в голову. Ведь бывает так у женщин, да и у мужчин: накрутят себя, доведут до изнеможения, а когда добьются своего, то вдруг понимают, что зря старались, изводили и себя, и вторую половину. Всё это так, и ничего тут нового не придумаешь. Просто надо иметь холодную голову и помнить прежде всего о её сыне. Им-то что. Ну, встретятся раз-другой, даже, возможно, поживут какое-то время вместе, а разве можно отгадать, как сложится в будущем, останется и будет ли греть душу игривое и ласковое настроение, присущее всем, кто взаимно неравнодушен.
Если бы Семён знал, о чем думала Оля после разговора с ним, то вполне убедился бы, что это так, от романтических чувств она немного съехала с колёс, и её звонок подтверждал это. Семён не знал, что фантазии уводили её далеко-далеко, намного дальше, чем он мог предположить. «Вот выйду за Семёна замуж, и даже не придётся менять фамилию…». Эта мысль даже веселила её и будоражила, хотя она и понимала, что мысли выдают непростительно свихнувшуюся натуру. «Одумайся, девушка, ведь не весна на дворе, война идёт, а у тебя бог знает что на уме! ‒ клеймила она себя, но нисколько не осуждала, потому что знала, что дождалась, и нашла то, что искала. ‒ И пусть потом что угодно говорят обо мне, о Семёне. Совесть наша чиста, и никто не вправе судить нас, если даже в Писании указано, что жена погибшего переходит к его брату и становится его женой». Этим изречением она успокаивала себя, убеждала, хотя такие случае редки, но всё же бывают. И кто теперь, в современной жизни, может сказать, что правильно, а что нет, когда мир, особенно западный, свихнулся, а тем, кто следует законам природы, приходится мучить себя неудобными вопросами. Но, может, мы тем и отличаемся от них, что у нас пока возникают подобные вопросы и сомнения. Как без них, ведь живые мы, а не мрази бесчувственные и похотливые.
Рассуждения и мучения Ольги можно было понять, если она вспомнила о своей женской сущности спустя несколько лет терпения и даже страданий, когда укладывалась спать в холодную постель. Теперь моменты романтических фантазий заполняли её до краёв, она жила ими, просила прощения у погибшего мужа, не зная, как искупить свою вину перед ним, считая, что даже мысли её грешны и достойны осуждения. Но что она могла с собой поделать, если Семён окончательно запал в душу, теперь она считала его своим, близким и желанным, и мечтала о том дне, когда это желание исполнится. И неважно, каким он выйдет из госпиталя после ранения, ‒ она примет его любым, и даже сильнее будет любить, кто бы что ни говорил. Главное, она сама верила в него и знала, что он необходим. Разве этого мало, разве мало того, что её душа соединится с его душой, и кому от этого будет хуже? Его и её родителям, Женьке? Он-то как раз будет только за, и разве плохо, если Семён будет ему не только родственником, но и заменит отца.
От мыслей и наплыва чувств после разговора с Семёном она ходила по квартире сама не своя. Сын, похоже, ничего не заметил. Она его накормила ужином, о чём-то поболтала, а после рано отправилась спать, чтобы не показывать своё взбудораженное состояние. Зачем ему что-то знать раньше времени, зачем брать на себя пусть и малую толику материнской неустроенности и печали. Ни к чему это. Расти, сын, и поменьше знай о страданиях матери. Не желая этого, она совсем расклеилась, хотела сдержать слёзы, не показывать их даже себе, но не сдержалась, беспомощно и безнадёжно разревелась, заглушая рыдания в подушке.
41.
Оставшись без Семёна, Толян Кочнев вдруг почувствовал, что земляка очень и очень не хватает. Это тем более удивляло, что он знает его по-настоящему без году неделя, зато в условиях экстрима, постоянного риска и непредсказуемого ближайшего будущего. На фронте живут одним днём, даже одним часом, одной минутой. Иногда миг отделяет от жизни и смерти, и уж сколько он успел насмотреться таких смертей. И это при том, что их батальон пока не принимал участия в больших наступательных боях, хотя постоянно оборонялся от наседавшего противника, обезумевшего от своей малообъяснимой упёртости. И что это им даёт ‒ постоянные атаки изо дня в день, иногда и по нескольку на дню, при этом теряя десятки бойцов, ‒ неясно. Можно лишь предположить, что гонит их вперёд марионеточное киевское руководство, выполняющее указание западников, которым не жалко в этом противостоянии ни тех, ни других. Пусть бьются славяне, пусть уничтожают друг друга. Им это только на руку, они от этого только радостно потирают ладони, поставляя наёмников, технику, заливая Украину миллиардами долларов, лишь бы ослабить Россию и вообще расправиться с ней. Да и почему не заливать, если этих бумажек можно напечатать неограниченное количество и, пока они держатся в цене, всё, что угодно, на них купить. И не только на Украине. Западники давно поняли, что пришло такое время, когда можно этим воспользоваться, потому что никто не знает, что будет далее: и с ними, и с долларами, и с евро. Но пока они есть, можно скупать впрок продовольствие и ресурсы по всему миру, а главное, людские души, чтобы завоевать их и утвердиться на пошатнувшемся троне.
Толян не очень вникал в политику, но и он стремился познать тот или иной расклад вражьих сил, хотя всё это напрямую его не касалось, поэтому и не особенно озадачивало. Его интересовало одно: когда враг окончательно поймёт бесплодность своих устремлений, а наши войска соберутся в боевой кулак и по-настоящему покажут себя. Уж так не хотелось торчать в опостылевших окопах, в которых изучил все трещины, все выступающие обрубки корней, а идти и идти вперёд по светлым полям на вольном воздухе. Собраться в лавину и всё смести на пути, день за днём преодолевая пространство и закрепляя его за собой, но пока не намечалось подобного движения. Почему-то так выходило, что почти везде мы оборонялись, даже и тогда, когда провели трёхсоттысячную мобилизацию, а локальные наступления на Донецком участке не приносили значимых успехов. И сразу возникли вопросы: почему мобилизацию не объявили с началом специальной операции или летом, когда проморгали истощение в личном составе? И почему только триста тысяч? Почему не пятьсот или миллион? Украина провела шесть или семь волн мобилизации, а мы вальяжничаем, прикрываясь оговорками, легко сдаём ранее занятые позиции. Но это нет так страшно, если оперативная обстановка складывается таким образом, что выгоднее на время отступить, сохранив личный состав, чем бессмысленно им жертвовать. В конце концов, и великие полководцы прошлого не гнушались этим манёвром, понимая, что, проиграв сражение, они выиграют войну. Обидно другое ‒ за местных людей, которых обнадёжили, а потом многих бросили, оставили на растерзание. Да, большинство населения успевали эвакуировать, но ведь кто-то оказывался лёгкой добычей этого зверья, сразу приступавшего к выявлению «колобарантов», глумлению над ними и массовым расстрелам.
Эти мысли могли бы озадачить Кочнева, но что они для него ‒ бесплодные мечтания, не более. Его в последнее время иное заинтересовало: прошёл слух, что набирают личный состав в подразделение операторов беспилотников. Толян сразу смекнул: вот настоящее дело и, главное, чистое. А что: сиди в тылу, крути-верти джойстик, выявляй позиции врага и передавай данные для нанесения по ним удара дронами или артой. Перспектива показалась заманчивой. Соблюдая субординацию, он попытался что-либо узнать по этой теме у комвзвода Комракова, но тот лишь отмахнулся:
‒ Не мой уровень. У ротного надо узнать.
‒ Узнайте, пожалуйста. Я-то не могу к нему обратиться через вашу голову.
Комраков явно не хотел лезть на глаза вышестоящему командиру, но пообещал без особо энтузиазма:
‒ Попробую что-нибудь разведать… ‒ И Кочнев решил, что его обещание ‒ обыкновенная отговорка.
Ещё неприятнее и печальнее сделалось на душе у Толяна, когда вечером Комраков сообщил, что, мол, разговаривал о нём с ротным и тот сразу отказал, напомнив, что требуются готовые операторы с высшим образованием, а проще ‒ программисты и прочие айтишники, чтобы не проводить с ними курсы компьютерной грамотности.
‒ Да какая там грамотность? Мне приятель разрешал управлять коптером. Им и детсадовец бы смог крутить-вертеть! ‒ вскипел Толян.
‒ Боец Кочнев, вам что, несколько раз надо повторять? Всё ‒ разговор окончен!
Толян козырнул и стыдливо проглотив обиду. Он даже пожалел, что ввязался в эту затею, не подумав, не прикинув собственные возможности, а ломанулся напропалую, хотел нахрапом взять. Это была его вторая неудача. Первая ‒ это когда пытался устроиться в автобат и возить боекомплекты и прочий провиант из тыла на передовую, но и в тот раз чем-то не угодил. Спросить бы, но всё равно никто ничего не скажет ‒ это Комраков чего-то разоткровенничался. Совсем другим человеком стал, с изначальным не сравнить: и от гонора ничего не осталось, и тушкой уполовинился ‒ нормальным человеком стал во всех отношениях.
На другой день представился случай переговорить с Безруковым, когда тот спросил о его кислой физиономии.
‒ Радоваться-то нечему. Сидим в норах, как кроты, совсем ослепли и оглохли.
‒ Не торопи события. Враги личный состав из-под Херсона перебрасывают к нам. Не заметил, как они в последние дни озверели. Так и прут буром. Захватили село Макеевку, чуть ли не отделение наших пленных расстреляли. Не раненных, не контуженных ‒ сами вышли к ним, наивные юноши, и лапки кверху, а враги в расход их. Вот и думай после этого. Между Хватовым и Временной ежедневно проводят по нескольку атак пехоты при поддержке различной бронетехники, включая танки. Не прекращаются попытки атаковать наши позиции, используя территорию лесничества. Разведгруппы скрытно подходят с юга, из лесов, завязывают стрелковый бой для разведки наших позиции.
‒ Тебе только политруком быть.
‒ Не люблю я командовать да людей поучать, указывать им. Трудно после этого с начальством ужиться, даже если и прав. Только кому нужна твоя правда, если у них она своя. Поэтому меня даже из монтажников выперли, а здесь тем более накроют медным тазом и заземлят. Так что приказали наступать ‒ наступаю, прикажут отступать ‒ отступлю вместе со всеми.
‒ Какие-то мы неправильные с тобой. У меня вот тоже облом получился ‒ не взяли коптерами управлять.
‒ Правильно сделали. Обучить, конечно, можно любого, у кого башка на плечах, но на фронте не тот случай, чтобы учить с нуля. Здесь подготовленные технари требуются. Так что не переживай. Мы здесь нужнее.
‒ Политрук ‒ это точно. Хочешь, за тебя похлопочу!
‒ Ты уже за себя похлопотал… Вот о ком скажи, о Прибылом. Ничего не слышно о нём? Семён мне можно сказать жизнь спас, ну, если не жизнь, то ногу ‒ это без вопросов.
‒ Это когда же?
‒ Когда недавно гнали врагов вдоль деревушки, а там «лепестков» как из мешка насыпано было… ты же рядом скакал. Засмотрелся я, а Семён увидел, что вот-вот наступлю на мину и оттолкнул меня. Об этом долго рассказывать, а тогда счёт шёл на доли секунды. Меня-то он оттолкнул, а сам угодил на соседнюю… Вот такие дела.
‒ Зато живым останется. Да и рана-то у него вроде небольшая была ‒ край берца размолотила. Глядишь, выздоровеет и вернётся.
‒ Кто его знает.
‒ Семён тот ещё спец-спасатель! Он и меня спас… из плена. В первые дни это было, когда с мобилизованными на пополнение прибыли. Чтобы без дела не сидели, нам сразу работёнку подкинули ‒ блиндаж строить. Выкопали мы яму и пошли в лес за брёвнами: пилили, носили, а в какой-то момент я решил по грибам пройтись, по кустам пошарить… Тридцати, наверное, метров не прошёл, как передо мной двое нарисовались: автомат отняли и повели в глубь леса. В тот момент Семён стоял в охранении ‒ заметил это гнусное дело и двумя короткими очередями срубил их. Переднего сразу, а второго ранил. Оказался он поляком, по-своему начал пшекать, прощения просить, а сам вроде незаметно потянулся за автоматом, ну и Семён с трёх метров прошил его. Вот так-то! Потом слух прошёл, что его к награде представили, только где эта награда, где теперь сам Семён.
‒ Это ты поэтому всегда с лимонкой ходишь?
‒ А чего стеснять-то, если вдруг плен замаячит, хотя теперь меня грибами не соблазнишь, но кто знает.
‒ Лимонка, думаешь, поможет?
‒ Поможет… на тот свет отправиться да парочку с собой прихватить. У меня их две! ‒ Толян ощупал разгрузку.
‒ Ты хотя бы спать-то с ними не ложись, а то мало ли чего.
‒ Нормально всё. Чека у каждой надёжная, с загибом. А то дээргэшников вражьих развелось ‒ нельзя спокойно отлить. Чуть ли не под каждым кустом сидят.
42.
В последнее время, когда объявился зять, Маргарита стала поругиваться с Виолой. До этого пылинки с неё сдувала, учила читать, счёт цифрам запоминать. А теперь той ни до чего стало. Чуть что:
‒ Папе позвоню!
‒ Лапка моя, да нельзя так часто ему звонить, начальство отругает. Ведь его и врачи осматривают, и процедуры он принимает, а в тихий час ему поспать хочется, отдохнуть, а здесь ты: «Папочка, поговори со мной!». Так нельзя. Вот вечером позвонить можно, когда у него, думаю, есть свободное время, ему это будет в радость, а так-то зачем трезвонить.
Несколько дней назад Маргарита проговорилась о Семёне перед Виолкой, сказав, что он в госпитале, а не в командировке, как ранее внушала внучке, и та сразу это запомнила:
‒ Бабушка, ты всегда говорила, что он в командировке? ‒ решила Виола выяснить у бабушку правду, и той пришлось выкручиваться:
‒ Так и есть… Из командировки он попал в госпиталь и теперь у него есть возможность позвонить нам.
‒ А что такое ‒ госпиталь?
‒ Военная больница, поняла?
Виолка поняла бабушку, но всё равно становилось обидно. Ей казалось, что папа где-то рядом ‒ вот же из трубки доносится его хрипловатый голос. Ему ничего не стоит поговорить хотя бы минутку. Ей много и не надо. Но нет, надо ждать вечера, и она ждала, не понимая, почему папу осматривают врачи и назначают процедуры, а бабушка всё это знала и молчала.
У той же свои заботы. Предстоящее слушание дела по иску группы лиц не позволяло спокойно жить, хотя бы так, как жила до этого. На судебное разбирательство она сама не собиралась из-за Виолки (не тащить же её с собой на слушание), поручила защиту адвокату, хотя и не могла предположить, что он там может наговорить.
‒ Ведь для доказательства мнимой вины ответчика заявители ничего не могут предъявить: ни платёжных документов, ни показания свидетелей, а на расчётном счёте фонда нулевой баланс, ‒ убеждал адвокат. ‒ Даже непонятно, как это дело вообще дошло до слушания, почему не развалилось на досудебном расследовании. Хотя, учитывая влиятельность некоторых заявителей, это понять можно, и людской фактор пока со счетов списывать нельзя. Но вы, дорогая Маргарита Леонидовна, не переживайте, я всё сделаю для восстановления справедливости, вам ничего не угрожает.
Маргарита и сама это понимала. Но понимать ‒ это одно, а чувствовать себя юридически защищённой ‒ совершенно другое. И это слушание для неё лишь разминка. Ведь скоро исполнится полгода со дня смерти мужа, предстоит вступать в права наследства, а эта волокита с переписыванием документов ‒ вещь сложная. Летом же и вовсе предстоит через суд, как ей объяснили в полиции, установить факт смерти любимой дочери, если, конечно, она не объявится с божией помощью. Дел предстоит много, а у неё нет ни времени, ни денег особенных, и опять же предстоит избавляться от недвижимости: то ли продавать загородный дом, то ли квартиру Ксении, в которой она ни дня не жила. И начать всё-таки надо с загородного дома, а квартира ‒ это уж на самый экстренный случай. В общем, забот невпроворот. И теперь у неё единственная надежда на адвоката. Он либо сам займётся всеми этими делами, либо подключит своих помощников ‒ ей без разницы. Лишь бы дела продвигались. Одно такое должно на днях разрешиться, и от его результатов во многом зависело дальнейшее конструктивное сотрудничество с Романом Осиповичем.
Ждать долго не пришлось. Через день он стоял на пороге квартиры с цветами, с подарками для неё и внучки: высокий, с лёгкой молочной проседью, в дорогих и стильных очках, и мило улыбнулся, когда Маргарита открыла дверь:
‒ А вот и я! Прошу любить и жаловать!
‒ Проходите, Роман Осипович! Мы вас ждём!
Он вручил хозяйке букет цветов, внучке ‒ коробку с набором куколок. Понюхав цветы и положив их на тумбочку, Маргарита подала «плечики», когда он снял кашемировое пальто, убрала его в шкаф. Пока гость мыл руки, сняла передник, поправила причёску перед зеркалом.
‒ Вы сегодня прекрасно выглядите! ‒ порадовал он хозяйку, прежде чем сесть за стол.
‒ Ой, прекратите, умоляю вас! Вот откупорьте, ‒ и подала бутылку вина. ‒ Надеюсь, есть повод выпить?
‒ Ещё какой! Хотя я и ранее говорил, что сегодня состоится чистая формальность. Подробности рассказывать нет надобности, скажу лишь, что решение суда должно быть изготовлено в пятидневный срок, а так как вы лично не принимали участия при оглашении, вам обязательно направят копию. И более вас ничего не должно волновать. Пусть заявители подают апелляцию, пусть волосы на голове рвут, вас это уже не касается.
‒ Ну, что же… ‒ улыбнулась Маргарита, ‒ есть прекрасный повод выпить!
‒ Поддержу вас в этом замечательном предложении!
Они отпили по половинке бокала, Маргарита положила гостю салат из спаржи и шампиньонов, подвинула поближе тарелку с беконом.
‒ Мне тоже спаржу! ‒ подала голосок Виола.
‒ В салате есть перец, а тебе нельзя острое.
‒ Бабушка, ну немножко, одну только веточку… И грибочек.
Гость улыбнулся:
‒ Какая милая девочка, смотришь на неё и душа радуется.
‒ Шалунья она у меня, хуже стала вести себя.
‒ А мой папа скоро из госпиталя приедет! ‒ доложила она Роману Осиповичу.
Тот посмотрел на Маргариту:
‒ Он, что же, с вами живёт?
‒ У него своё жильё. Виолка очень скучает. Как ни хороша бабушка, а папа ближе. Вот заботится о нем, ждёт не дождётся. Он ведь под мобилизацию попал, ранение получил, теперь лечится.
‒ Что ж, дело случая, ‒ не стал гость ничего уточнять. ‒ Это уж как кому повезёт.
Маргарита принесла из духовки запечённый бок баранины, шипящий на широком блюде.
‒ Опять то, что мне нельзя! ‒ по-взрослому вздохнула Виола.
‒ Фрукты ешь, орешки, курочку отварную могу положить. Будешь?
‒ Положи… ‒ смешно развела девочка руками, смиряясь со своей участью.
Роман Осипович поглядывал на Виолку, на Маргариту, с которой они почти ровесники и обоим нет ещё пятидесяти, и по нему было видно, что он что-то задумал. Когда хозяйка ловила его загадочный взгляд, он его не отводил, надеясь, что очки-«хамелеоны» скроют его откровенность. В какой-то момент он даже подсел к хозяйке и, почувствовав её тепло, положил ей голову на плечо, словно сдавался на милость победителя.
Виолка к этому времени, так и не доев курицу, начала клевать носом. Посмотрев на её мучения, Маргарита увела её в спальню, уложила, начала читать сказку о волке и лисице, но девочка по-взрослому вздохнула:
‒ Тебя ждут!
‒ Не болтай чепухи, ‒ будто вскользь отговорилась Маргарита. ‒ Сама заснёшь?
Девочка кивнула, демонстративно повернулась к стене, а бабушка вышла из комнаты и тихо закрыла дверь.
‒ Сегодня у тебя останусь! ‒ шаловливо отреагировал Роман на её возвращение. ‒ Нужно составить хотя бы примерный план дальнейших задач, а их, признаться, у нас с избытком.
‒ А как же жена?
‒ Я с ней в разводе, и это к нашему делу никак не относится.
Он говорил так спокойно и рассудительно, что Маргарита не смогла возразить, словно заранее смирилась со своей участью. Впрочем, участью ли, если она и сама желала перемен в жизни, стабильности, устав от бесконечных волнений недавнего времени. Уж столько на неё свалилось переживаний и забот, сколько, наверное, за всю жизнь не припомнит. Оставшись без мужа, она мечтала о таком человеке, и вот он появился, с ним стало спокойнее, увереннее, пришло ощущение полноты жизни, словно она пробила скорлупу домашнего заточения, когда из-за внучки не могла сходить, например, в театр, на выставку, да и просто прогуляться. Весь её маршрут последних месяцев состоял из прогулки до ближайшего сквера, а все торговые центры объединились в ближайший гастроном да в павильон с пончиками, около которого они с Виолкой постоянно останавливались, возвращаясь с прогулки. С пропажей дочери, с мобилизацией зятя она не представляла, как долго это будет продолжаться, и лишь теперешнее сообщение от Семёна о его ранении и нахождении в госпитале давало надежду, что он успешно вылечится, устроит свою личную жизнь и возьмёт Виолку на воспитание. А она свою миссию выполнила и пока выполняет вполне достойно, и никто никогда не сможет упрекнуть её в бездушии, в оставлении внучки на произвол изменчивой судьбы.
Роман Осипович, оставшись у Маргариты в этот вечер, стал постоянно навещать её. И сразу многое изменилось в жизни. Даже Виолка изменилась. Она стала реже звонить отцу и подолгу говорить с ним. Как-то он попросил ещё поболтать, но она торопливо, с деловой интонацией в голосе доложила:
‒ Пойду помогу бабушке ужин готовить! А то она жениха ждёт!
Семён так и обомлел: «Какого такого жениха?! Что за бред?!» ‒ хотел уточнить, но дочка отключила телефон.
43.
На второй неделе пребывания в госпитале Семён всё более удивлялся переменам в окружающих, казалось бы, хорошо знакомых людях. Наверное, перемены были и в нём самом, но свои трудно заметить, а вот чужие так и выпирали. И почему-то это более касалось женщин. Что Маргариту взять, что Людмилу, что теперь Ольгу. С ними произошло что-то на первый взгляд столь необъяснимое, что Прибылой терялся в догадках, не зная, как воспринимать и как относиться к их житейским выкрутасам. По-иному он это назвать не мог. Хотя поведение Маргариты и Людмилы казались в какой-то степени предсказуемым, ничего в них нового не просматривалось, а вот Ольга удивляла всё больше. Её поведение и отношение к нему наводило на мысль о том, что отношения не терпят пустоты. На его примере это очень хорошо прослеживалось. Когда пропала Ксения, появилась Людмила. Когда «испарилась» Людмила, вдруг заявила о себе Ольга. И пусть она открыто не говорила о своих чувствах, но Семён хорошо понимал, что кроется за её вниманием. Что-то с ней произошло такое, о чём он вполне догадывался, а главное, замечал, что её внимание и откровенность в чувствах находят и его понимание. Это стало ещё более заметно, когда Ольга переняла эстафету у Виолы и теперь звонила почти каждый день, и как-то Семён искренне спросил по этому поводу:
‒ Ты что, так разбогатела, что зарплата архивариуса позволяет подобные телефонные траты?
‒ Ничего страшного. Я перешла на безлимитный тариф, теперь могу говорить сколько угодно.
‒ Так мы договоримся до чего-нибудь такого, что потом мало не покажется.
‒ Разве это плохо?
‒ Что с тобой произошло, Оль?
‒ Если честно, не знаю… Ты мне всегда нравился, но, сам понимаешь, я не могла даже и капелькой внимания тебя смутить. Да и ты тоже вёл себя достойно. Был жив Андрей, у тебя была жена, мне в ту пору даже в голову не приходило ничего подобного, а теперь, когда мы свободны, моя совесть чиста, тем более, если я несколько лет не позволяла себе ничего лишнего, а теперь со мной что-то произошло. Я понимаю, конечно, что именно, и ты это понимаешь, и как нам тогда быть в этой ситуации? Не замечать друг друга? Ведь я же чувствую, что ты неравнодушен ко мне, а я к тебе, и что, так и будем мучить друг друга? Да, тебе тяжелее в этой ситуации, быть может, трудно переступить память о брате, но ведь я не настаиваю ни на чём. Подумай, нужна ли я тебе. Если нет, то я не буду мешать.
‒ Погоди, Оля… Тебя можно понять, но и ты меня пойми. К тому же с моим ранением до конца неясно, смогу ли я без хромоты ходить, если смогу, то как. Ведь одно дело бегать-прыгать, а другое передвигаться ощупочкой. Ведь качество жизни важно для любого человека.
‒ Мне трудно что-то загодя говорить, но, поверь, если я уж что-то делаю, то делаю серьёзно, и твоё нытьё мне слушать совершенно не хочется. Мне от твоих слов даже обидно, будто я навязываюсь, на шее висну!
‒ Да не о том я… О своих родителях думаю: как они это всё воспримут? Отец, знаю, спокойно отнесётся к нашему порыву, но мать стопроцентно будет против.
‒ А мы не будем самовольничать, соберём твоих и моих родителей и попросим у них благословения. Думаю, после такого уважения к ним кто откажется?
‒ Ну у нас и разговор… Мы будто на весах отмериваем все «за» и «против», а нужно поступить так, как нам хочется. Не заискивать и не выпрашивать милость, от кого бы она ни исходила.
‒ Вот это слова мужчины! ‒ Он услышал, как Оля завсхлипывала, и, дождавшись, когда она немного успокоится, постарался утешить:
‒ А насчёт ноги не переживай, если я особо не переживаю. Скажу тебе, чтобы знала, то, чего не говорю пока родителям, и ты им не рассказывай. На мину противопехотную я налетел, но повезло ‒ краем зацепил. Мизинец и четвёртый палец оторвало, третий в госпитале ампутировали, и осталось у меня на левой ноге два пальца: второй и большой, как у парнокопытного, но заживление идёт штатно, осложнений нет, даже помаленьку приучаю раненую ногу к ходьбе, с костылями, конечно.
‒ Молодец, я рада за тебя! Если есть настроение шутить, то всё образуется и с ногой, и у нас с тобой.
‒ Давай на этой правильной ноте завершим наш разговор. Не переживай, Оля, всё хорошо будет. Верь в это!
‒ Верю! И целую тебя.
‒ Взаимно!
После паузы связь отключилась, и он представил, в каких чувствах теперь она находится, какие эмоции испытывает. Семён вздохнул, умостился на подушке и закрыл глаза, вспоминая разговор. Через какое-то время его отвлёк Николай с соседней койки.
‒ Извини, Семён, но я кое-что слышал… Везёт тебе ‒ с девушкой душевно разговариваешь.
‒ Ты тоже не отстаёшь!
‒ Чепуха всё это… моя не дождалась. Узнала, что у меня стопы нет ‒ и более стал не нужен, а ведь собирались перед Новым годом пожениться.
‒ Другую найдёшь: умную и любящую!
‒ Кому я такой нужен.
‒ Чудак ты человек. Никогда не знаешь, где найдёшь, где потеряешь. Пройдёт какое-то время, и обязательно на свадьбу пригласишь. Люди и не с такими ранениями качественно живут. Сделают тебе протез и будешь щеголять по новой набережной в своём городе энергетиков, и будет тебе почёт и уважение, и детишек будет куча, и сам ты никогда не остановишься на достигнутом.
‒ Эх, ‒ вздохнул Николай и, ничего более не сказав, отвернулся к стене.
«Весёлые, конечно, времена всех нас ждут, ‒ осмотрел Семён однопалатников, ‒ и у каждого своё на уме. В разговоре все, кроме, Николая, кипишатся, стараются носа не вешать, но нет-нет да проскальзывает в их глазах печаль и тревога, и сами они похожи теперь на молодых старичков: рассудительных, малоразговорчивых, а если кто и пошутит, то напряжённо и фальшиво, будто по чьему-то наущению. Да и мне особенно радоваться нечему, ‒ добрался Семён и до самого себя, ‒ вся и радость, что живым остался, а как далее всё сложится ‒ лишь Богу известно».
Чтобы не мучиться предположениями, Семён на очередном обходе спросил у лечащего врача о перспективах своего интересного положения.
Тот ответил прямо:
‒ Что касается конкретно вас, то могу сказать о выписке через недельку-полторы, когда ваше состояние рассмотрит комиссия и примет решение о дальнейшей годности или негодности к строевой службе. С больничным листом в кармане вы покинете сие славное заведение, будете проходить реабилитацию и долечиваться амбулаторно. Думаю, всё у вас будет в порядке, так как осложнений нет, а это на данном этапе главное, как и то, что нагружайте раненую стопу постепенно, берегите, если на фронте не уберегли. Через полгода вы и вовсе забудете о нынешних тревожных днях.
Выслушав слегка шутливые наставления, Семён вспомнил свою работу, худого и носатого директора автобазы, его слова о том, что, мол, место забронировано ‒ приходи и трудись, руководи людьми. Даже книжка трудовая у них хранится. Решив убедиться, что это так, Семён позвонил ему после врачебного обхода, желая узнать, что к чему. Активировал его номер и сразу услышал:
‒ Кого я слышу! Семён Иванович?
‒ Он самый, ‒ подтвердил Прибылой. ‒ Вот решил позвонить, доложить обстановку.
‒ Докладывай, дорогой!
‒ В госпитале я нахожусь, с ранением ноги. Дело идёт на поправку, надеюсь, что после реабилитации вернусь к вам. Местечко держите?
‒ Обязательно, а как же! Совсем работать некому!
‒ Пока точных цифр назвать не могу, но месяц моя тягомотина продлится.
‒ Такое серьёзное ранение?
‒ Серьёзное не серьёзное, а на костылях прыгаю. Правда, динамика положительная, осложнений нет. Надеюсь и желаю вернуться и всё сделаю, чтобы это произошло как можно скорее.
‒ Ну, если есть желание ‒ это самое главное. Возвращайся, ждём.
‒ Спасибо, Джоник Ашотович! До встречи!
Семён отключил телефон, подумал, что этот звонок совсем не лишний, да и директору полезно знать о планах своего работника, а работнику не суетиться, зная натуру начальника. Он любит, как и большинство начальников, чтобы к нему несколько раз подошли, напомнили о себе и поклонились. Но если отбросить эту вполне понятную должностную черту, то во всё остальном он нормальный мужик, главное ‒ слов на ветер не бросает.
44.
Завершалась третья госпитальная неделя, и всё вроде бы наладилось, шло привычным чередом, как и выздоровление Семёна. Иногда, накручивая метры по коридору, он пробовал слегка наступать раненой ногой, давать ей нагрузку; как молодой орёл машет крыльями, готовя себя к первому полёту, так и он тренировался. Если сначала даже и мысли такой не имелось, то теперь он с каждым днём всё смелее нагружал ногу: и при ходьбе, и при статической нагрузке, нагружая пятку и оберегая оставшиеся пальцы. Но делал это осторожно, помня слова врача о том, что нельзя резко нагружать стопу, на этом этапе важно избежать смещения её свода, тем более что она была у него проблемной с момента апрельского ранении. Все рекомендации Семён старался исполнять, хотя и мечтал о том моменте, когда, отбросив костыли, он пойдёт обычной походкой, и никто никогда не скажет о нём как об инвалиде. Пусть это будет не сразу, но он добьётся своего. Главное, чтобы нога не подвела, а у него хватит сил не подвести самого себя.
За последнее время Прибылой отоспался, немного поправился, даже порозовел. Теперь после обеда не заваливался спать, благодаря в душе тихий час, а копался в смартфоне, ища ролики и сайты с сообщениями с фронта, но более всего его интересовало противостояние на линии Хватово ‒ Временная, где на «передке» окопалась и держала оборону его рота. Ему там известен каждый блиндаж, каждый поворот окопов, хватило месяца, чтобы навсегда запомнить недавнюю круговерть, состоявшую из рытья земли, постоянных атак неприятеля в многочасовых, то затихающих, то разгорающихся перестрелках. И постоянно перед глазами раненые, погибшие с той и нашей стороны, постоянные страдания, кровь и увечья. Семён не хотел вспоминать, но мысли и видения об этом не оставляли, а с каждым днём всё острее напоминали и его в этом участии. Время не помогало. Он помнил почти всех своих «двухсотых», а набралось их за месяц не менее десятка. Вполне мог быть и ещё один, когда Семён обнаружил раненого врага, скрюченного в воронке, как потом оказалось, не от тяжёлого ранения, а от собственного испуга. Особенно, когда Семён встал над ним и навёл оружие. И выстрелил бы, если тот дернулся или потянулся за автоматом, но враг неожиданно закрыл глаза и начал молиться, словно вымаливал пощаду. В тот момент Прибылой впервые почувствовал сострадание к врагу, и по-иному поступить не мог, как простить его и не лишать жизни.
Всё это лишь эпизод, но он сохранится в памяти и будет напоминать, что и на войне бывает случаи, когда необходимо пересилить себя и проявить милосердие. А не так, как враги поступили в селе Макеевке: уложили на землю десяток наших пленных и расстреляли их в упор! Есть ли этому злодейству название? Какой кары заслуживают те, кто это совершил? Когда Семён узнал об этом, его затрясло от ужасающего вероломства, полыхнула мысль: «И это всё простить?». Это был не первый случай, когда враги расправлялись с группами раненых, проявляя пещерную злобу и ненависть к несчастным, что, не приведи случай, они и мать родную не пожалеют. Или они ни о чём этом не думают, и матери ни при чём, но ведь воспитывали-то они. Значит, в душе и они такие же, если, отправляя сына воевать, не внушили, не напомнили о том, чему, возможно, учили до этого. Значит, учили чему-то другому, значит, в них живёт гниль и презрение ко всем чужакам, кто не из их стаи, кто молится другому Богу, хотя известно, что он един, лишь называется по-разному. Нет, здесь другое. Все подобные существа живут своим уставом, подстраиваясь под окружающих людей, до поры до времени ведут себя как безобидные микробы, но стоит им попасть в благотворную среду, как начинают активироваться действием и размножаться числом. Нынешний пример у всех на виду, когда после цветных революций и многолетнего промывания мозгов молодому поколению, и не только, Украину захлестнула волна беззакония, основанная на праве сильного, и право это тайно и явно поддерживали западные страны, накачивая майданников деньгами, советниками, разрабатывая и прививая, постоянно вдалбливая в головы идеологию превосходства, вседозволенности и безнаказанности. Все ли поддались этому и приняли такое поведение и отношение, стали ли они примерять его на себе и прививать другим? Нет, конечно, не все. И таких было большинство. Но как часто доказано ходом истории, агрессивное меньшинство подавляет страхом наказания и смерти разумное большинство, превращая в послушную массу. И то, что происходит сейчас на Украине, это доказывает. Хотя сильно размножились организмы, попавшие в благоприятную среду, но и у них не хватило бы ни сил, ни средств попытаться добиться своего окончательного превосходства без помощи извне. Поэтому они так легко продают душу за иностранные подачки оружием, обмундированием, деньгами, понимая: без всего этого они способны только на враньё, мерзости, на месть пленным, тем самым показывая свою сущность примитивных микробов.
Примерно так думал Семён Прибылов после расстрела пленных врагами. Была жалко погибших, обидно за самого себя, что две его недолгих фронтовых командировки закончились так быстро. Или это так положено мотострелкам: всегда на переднем крае, всегда от смерти на волоске. Уж сколько раз за последний месяц Семён был свидетелем наступлений противника, когда сами встречным выдвижением загоняли его на прежние позиции. Сколько раз он видел то справа, то слева падающих товарищей. Кто плашмя падал, кто, согнувшись и схватившись за бок, кто по инерции ещё делал несколько шагов, чтобы ткнуться в землю… Эти видения не оставляли и в госпитале. Даже здесь они терзали душу, накапливались слоями, и легче от этого не становилось. С каждым днём он всё острее понимал, что такое война, каково быть на «передке», где бойцы порою и дня не живут, а кто месяц провоевал, тот вообще герой.
И таких в госпитале прибавлялось. Они прибывали, заменяя выписавшихся, занимали их места, отлёживались в палатах после операций, иные лица примелькались, иные пропадали. Были и из их роты. Семён их мало знал, махнёт головой при встрече в коридоре и далее ковыляет, уткнувшись в пол, словно остерегаясь неровности. Однажды его кто-то окликнул:
‒ Семён! Неужели ты?!
Прибылой вгляделся и узнал в человеке с загипсованным правым плечом и с поддерживающей косынкой Безрукова из своего отделения и невольно замер, расплылся в улыбке:
‒ Антон, ты что ли? ‒ Семён попытался его обнять, но Антон слегка отстранился:
‒ Осторожней, а то все норовят похлопать по плечу.
‒ Вижу, вижу… Когда поступил?
‒ В это отделение только вчера, а вообще-то вторую неделю в госпитале.
‒ Что с плечом?
‒ Сначала думали, что сустав разбит, а был всего лишь сильный вывих. И пуля под броник залетела. Теперь вроде разобрались. Плохо, что правая рука, а левой ничего не умею делать.
‒ Научишься. Потом рука восстановится, и всё забудешь. Ты где расположился?
‒ В конце коридора, крайняя палата справа…
‒ Всё у тебя правое, а у меня левое, я ведь два раза получал ранение в одну ногу.
‒ Это когда же успел-то в первый раз?
‒ В апреле. Тогда добровольцем участвовал в СВО… Пойдём ко мне. Посидим, а то что-то стоять устал ‒ из стороны в сторону начинает водить.
Когда пришли и сели на кровать, Семён толкнул Николая:
‒ Посмотри, кто пришёл-то?
Николай повернулся к ним и не удивился:
‒ Ещё наш! ‒ Он пожал Антону левую руку и вновь отвернулся к стене: ‒ Разговаривайте…
‒ Какие ещё новости? ‒ спросил Семён у Антона после паузы, словно собирался с мыслями; о чём-то хотел спросить, но не решался.
‒ Самая главная ‒ плохая… Не стало Толяна Кочнева, твоего дружка. За три дня до моего ранения.
Николай хрустнул кроватью, повернулся к ним:
‒ Это того, который мечтал негра в плен взять?!
‒ Его… Перед этим сам чуть в плен не попал… ‒ вздохнул Антон.
‒ Расскажи, как было дело… ‒ попросил Семён.
‒ Характер у него шебутной, сам знаешь… В контратаку мы пошли, Толян, как всегда впереди… Когда начали отходить на свои позиции, то не сразу заметили, что его нет. А смотрим, метрах в ста пятидесяти мелькает он в кустах красной повязкой на рукаве ‒ у всех наших белые, а у него красная ‒ не признавал он белый цвет, сам знаешь, ‒ а вокруг него несколько врагов, видимо, хотели живым взять, только у него всегда с собой имелось две «лимонки»; ну он и шарахнул их обе, да так ловко, что враги даже не успели разбежаться ‒ попадали; трое или четверо их было. Они, может, потому и хотели взять Толяна живым ‒ из-за красной повязки. Так и не стало его... ‒ Антон замолчал, и никто в палате не смотрел друг на друга, будто все оказались виноваты в гибели Кочнева. ‒ А как стемнело, мы эвакуировали его, остерегались нарваться на засаду, поэтому выдвинулись с охранением, сначала на полусогнутых шли, а последние метров пятьдесят ползли. Обнаружили и опознали его по красной повязке, взяли автомат ‒ его или чужой ‒ без разницы, потом оказалось, что автомат его, только с разбитым цевьём, а сам Толян посечён до неузнаваемости и сильно был залит кровью, значит, сердце ещё долго работало… ‒ Антон замолчал, молчали в палате, словно чувствовали несуществующую вину в гибели товарища. ‒ Надо бы его родителям сообщить.
‒ Сообщу, только не сразу, ‒ встрепенулся Семён. ‒ Мы ведь с ним на соседних улицах живём. Только не хочется звонить, если он погиб пять-шесть дней назад. Возможно, родители и знать пока ничего не знают, а быть первым в этом деле нежелательно. Вот выпишусь из госпиталя, побываю у них, на могилку схожу.
‒ Вместе сходим, не забывай, что и я земляк.
В палате стало тихо: ни разговоров, ни музыки, как обычно, и Антон легко поднялся:
‒ Пойду, парни, к себе… А Толяну пусть земля будет пухом…
Когда Антон ушёл, пацаны в палате мало-помалу разговорились, а Семён так и промолчал остаток дня, да и утром продолжал о чём-то думать.