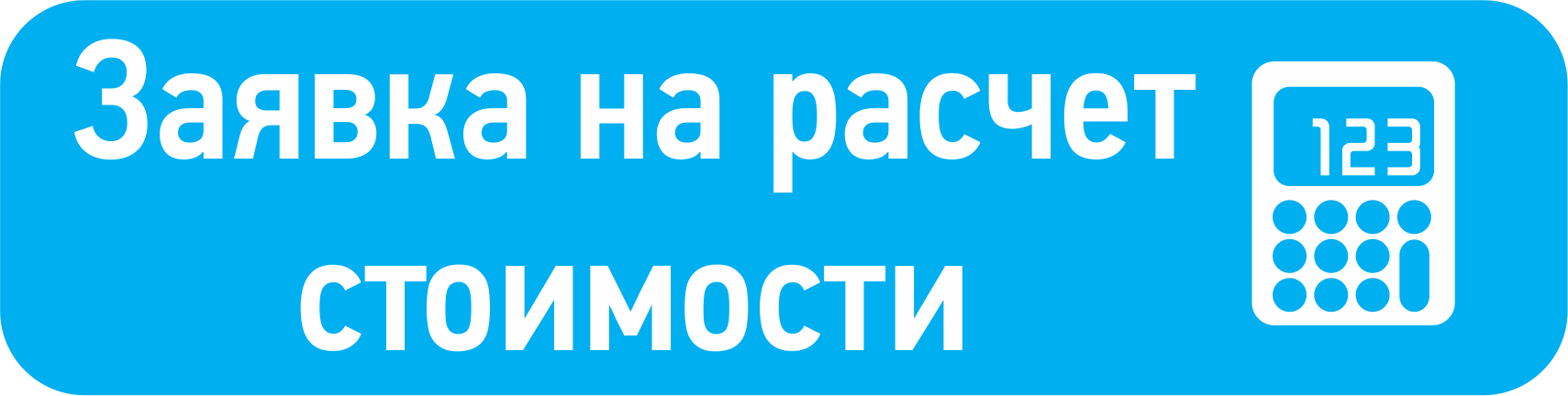Проймин с Подберёзовым оказались последними, с кем Чернопут поговорил о конкурсе, и все литературные заморочки оборвались, когда обстрелы на Донбассе переросли в настоящие бои, и руководство страны ввело войска на помощь жителям теперь признанных республик, чтобы остудить горячие головы нацистов, творивших восемь лет бесчинства и науськанных на это покровителями из-за границы. Это даже радовало, потому что в Чернопуте жила обида за бесценок отданную виллу на родине этих «покровителей», а вместе с ней оказалась потерянной мечта о счастливой жизни на склоне лет. Неужели он не заслужил этого, неужели зря стремился налаживать жизнь, начиная со студенчества, когда приходилось подрабатывать дворником, расклеивать рекламные объявления. Ведь всё он прошёл, всё превозмог, но оказалось, что этого мало, кому-то оказалось не по нраву его жизнь, а значит жизнь его семьи, и теперь они хотели всё разрушить, вернуть всё к тому, с чего он когда-то начинал, и даже ущипнуть больнее… И вскоре сделали, да так, что и дышать стало нечем: по всем СМИ прошло сообщение о заморозке активов не только Центробанка, но и физических лиц; запретили российским авиалиниям полёты в Европу, и сами отказались от них. Для кого-то эта новость как удар молнии в темечко, а он лишь порадовался за себя, что всё успел сделать вовремя. А санкции со временем снимут, и будет к чему возвратиться. И ещё по-доброму вспоминал Ефима, но не стал его беспокоить и лебезить, тем самым признавая его ум и прозорливость и выдавая себя простачком. Своя голова есть на плечах, чтобы принимать мудрые решения. Поэтому, когда Подберёзов пристал с каким-то пустяком по конкурсу, то устроил ему словесную трёпку, даже накричал. В тот же вечер он и Маргариту довёл до слёз, когда она извела вопросами:
Проймин с Подберёзовым оказались последними, с кем Чернопут поговорил о конкурсе, и все литературные заморочки оборвались, когда обстрелы на Донбассе переросли в настоящие бои, и руководство страны ввело войска на помощь жителям теперь признанных республик, чтобы остудить горячие головы нацистов, творивших восемь лет бесчинства и науськанных на это покровителями из-за границы. Это даже радовало, потому что в Чернопуте жила обида за бесценок отданную виллу на родине этих «покровителей», а вместе с ней оказалась потерянной мечта о счастливой жизни на склоне лет. Неужели он не заслужил этого, неужели зря стремился налаживать жизнь, начиная со студенчества, когда приходилось подрабатывать дворником, расклеивать рекламные объявления. Ведь всё он прошёл, всё превозмог, но оказалось, что этого мало, кому-то оказалось не по нраву его жизнь, а значит жизнь его семьи, и теперь они хотели всё разрушить, вернуть всё к тому, с чего он когда-то начинал, и даже ущипнуть больнее… И вскоре сделали, да так, что и дышать стало нечем: по всем СМИ прошло сообщение о заморозке активов не только Центробанка, но и физических лиц; запретили российским авиалиниям полёты в Европу, и сами отказались от них. Для кого-то эта новость как удар молнии в темечко, а он лишь порадовался за себя, что всё успел сделать вовремя. А санкции со временем снимут, и будет к чему возвратиться. И ещё по-доброму вспоминал Ефима, но не стал его беспокоить и лебезить, тем самым признавая его ум и прозорливость и выдавая себя простачком. Своя голова есть на плечах, чтобы принимать мудрые решения. Поэтому, когда Подберёзов пристал с каким-то пустяком по конкурсу, то устроил ему словесную трёпку, даже накричал. В тот же вечер он и Маргариту довёл до слёз, когда она извела вопросами:
‒ Почему виллу отдал за бесценок? Что случилось, или Бог наказал слабоумием? Ведь никогда таким не был?
‒ А что бы ты сделала на моём месте?!
‒ Уж что-нибудь придумала, а ты как был Танкистом, так им и остался. А ещё слышала, что недвижимость трогать не будут, а вот счета могут прикрыть!
‒ От кого это слышала? Тебе ещё не то наговорят!
‒ Слышала… Это только ты ничего не знаешь!
Он не понимал её претензий, ведь рассказал ей обо всём сразу по возвращению из Барселоны, но тогда она приняла случившееся смиренно, а теперь вдруг вздыбилась. А что Герман мог ответить, если в тот раз всё разъяснил, что вывернулся без больших потерь из создавшегося положения. И что теперь истерику закатывать, или не знает, что творится в мире? А надо бы знать!
Он всё объяснил повторно, не называя имени Ефима, иначе жена тотчас бы обвинила в неумении жить своим умом. Но ведь не мог же звонить и спрашивать у приятеля, как поступил бы он, что предпринял в сложившейся бесподобной ситуации. Гордость не позволила признаться в беспомощности, да и не хотелось жевать эту тему, наводя чужого человека на нехорошие мысли, показывая себя последним простофилей, ну, если не последним, то предпоследним это точно. От этого и обида терзала. Когда же вспоминал слова Маргариты о недвижимости, то верил им и не верил. И от этого ещё более впадал в смятение. Страдая общим угнетением души, он почти перестал спать. Закрывался от Маргариты на ночь в отдельной комнате. Вроде бы без жены засыпал быстрее, но не по-настоящему, если через полчаса просыпался; иногда тихо, иногда от собственного крика, и тогда к нему прибегала жена, включала свет, прижимала к себе потного и всклокоченного мужа и вместе с ним плакала. Они уже ничего не обсуждали, не говорили, не успокаивали один другого, а лишь молчали и вздыхали. Герман незаметно засыпал на её руках, а она, аккуратно уложив его и накрыв одеялом, молила Бога, чтобы он помог маявшейся душе.
Маята у Германа ненадолго проходила, но потом опять обида захлёстывала, и начинало мниться, что преследует злая и насмешливая старуха в образе Маргариты. Как-то во сне приснилось, будто она тихо прокралась к нему в комнату, якобы миловаться, да только Герман вовремя заметил нож в неё руке, спрятанный в складках ночной рубашки… Жена думала, что он ничего не слышит, а он как раз в этот момент проснулся, будто от Божьего знака, и едва увернулся от занесённого на него ножа… От неожиданности и страха он заорал на весь дом, да так, что проснулась и жена в соседней комнате, и дочь с зятем. Маргарита прибежала, включила свет и увидела мужа, забившегося в угол кровати, будто он хотел просочиться сквозь стену, и его безумный взгляд, словно она чем-то невероятным напугала его, выдавал его полное смятение.
‒ Что с тобой? ‒ перепугалась Маргарита.
‒ Это ты?! ‒ спросил встречно Герман и вдруг закрыл лицо руками, завсхлипывая.
‒ Что ещё случилось-то?
Он внимательно посмотрел на неё долгим и немигающим взглядом, вздохнул, отвернувшись к стене:
‒ Глупость какая-то приснилась.
На следующий день Маргарита пришла к нему, но он вновь воспротивился:
‒ Один буду спать, чтобы тебе не мешать.
‒ Без меня, сам же говоришь, снится бог знает что! Что вчера-то приснилось?
‒ Да будто в аварию попал… ‒ притворился он.
Чтобы окончательно обхитрить жену, он на следующую ночь положил под подушку нож. На всякий случай. И, укладываясь спать, теперь знал, что сможет защититься. От этой мысли он даже перестал волноваться и сожалеть о значительной потере денег. Что ему голову напрягать, если у него этих вкладов несколько: и в Москве, и в своём городе. Да и у жены есть, и у дочери, а для зятя единственное, что сделал доброго, не считая машины и карманных расходов, прикупил новую двухкомнатную квартиру на берегу протоки. Оформил на его имя, но ничего не говорил ему, лишь поставил в известность Маргариту и указал, где хранит документы на квартиру и ключи от неё, и обязал платить все коммунальные платежи, так же, как и за квартиру для Ксении. И ей ничего не сказали, чтобы они оба носы не задирали, а то, скажи, так мигом улизнут из-под родительского крыла, а за ними глаз да глаз нужен. Ксения в последнее время помешалась на нарядах, а зятю, похоже, ничего не надо, кроме как съездить в посёлок к родителям, а на подарки ему и зарплаты хватало. И как съездит, так разговоров потом на месяц, и сразу становится понятным, что его родители, посёлок у болота, бекасы по берегам ‒ для него главное в жизни, поэтому он будто и не живёт в их семье. Он и внешне выделялся: они все мелкие, а он среди них словно каланча. Да и не нужны они ему особо. В городе ему другое милее ‒ казаки. Чуть ли не все выходные проводит в их компании. Герман всегда удивлялся: вот умеет же человек отстраниться от всего, найдя себе занятие, и никто ему вроде не нужен ‒ ни семья, ни он с Маргаритой, он даже и на дочку-то особо не обращает внимания. Со стороны посмотреть ‒ счастливый человек.
Никто в семье не знал, что Семён давно на них смотрит, если уж не с презрением, то с неодобрением ‒ это точно. И совсем перестал уважать их, даже Германа. Тот до недавнего времени был нормальным мужиком, а в последний месяца полтора с ним что-то произошло такое, что невозможно было объяснить. Всегда Семён считал его своим заединщиком, который всегда поддерживал, составляя неплохую мужскую партию в семье против женской партии, никогда не отказывал в финансовой помощи, делая её без огласки, но теперь непонятно из-за чего чрезмерно отдалился. Получалось, что Семён остался в семье один на один со своими мыслями и привычками, ему не хотелось ни с кем делиться, и в иные минуты появлялось желание выйти из дома и бежать без остановки куда глаза глядят. Поэтому он легко, даже с приятной мстительностью записался добровольцем в казачий отряд, ничего не говоря семье, даже от Ксении скрыл, зная, если откроется, то она никуда не пустит, а все они пристыдят, заплюют, а потом… Потом, вполне возможно, просто дадут пинка, и катись тогда Семён Прибылой на все четыре стороны. Не до тебя стало. Пережитком сделался, а кому нужны пережитки? Поэтому Семён свой отъезд скрывал до последнего, а чтобы совсем уж не выглядеть дерзким, написал перед выходом из дома записку Ксении с сообщением о своём отъезде на Донбасс добровольцем.
Ксения обнаружила записку вечером, вернувшись с работы, сразу же устроила истерику и напомнила о «счастливом человеке» родителям: заставила о нём говорить, перед ужином степным заволжским вихрем влетев в столовую и сверкнув сузившимися глазами, кинула записку на стол:
‒ Пап, мам, как это понимать? Вот почитайте!
Чернопут нехотя взял записку, скользнул по ней взглядом и встрепенулся:
‒ Как это уехал? И почему на Донбасс? Кто его там ждёт?
‒ Пап, у меня спрашиваешь?! ‒ спросила, укорив, дочь и зарыдала. ‒ Не посоветовался, не предупредил. Раз ‒ и уехал! Аника-воин выискался, воевать ему захотелось, словно я для него пустое место. Ну, не скотина?!
Маргарита выхватила у мужа записку и чуть ли не набросилась на дочь с кулаками:
‒ Ну, и как ты могла допустить это?
‒ Он что, предупреждал… Утром лишь сказал, что попозже пойдёт на работу. Разве я могла знать, что задумал наш Семён Прибылой!
‒ А ведь он действительно прибылой! ‒ многозначительно и непонятно сказал Чернопут и пояснил: ‒ Так молодых волков называют! Живёт в стае, но делает, что захочет!
На какое-то время все затихли, обдумывая откровение Германа, а потом Маргарита чуть не подскочила на стуле:
‒ Ну, что ты сидишь-то? ‒ замахнулась она на него, словно хотела ударить. ‒ Позвони военкому. Ты же знаешь его. Спроси, может, у них какие-то списки составляли или ещё что-нибудь?!
Подумав: звонить или не звонить, Герман взял трубку, потом с кем-то поздоровался, спросил, коротко описав ситуацию. Сказав «извини», он бросил телефон на стол, посмотрел на дочь, потом на жену:
‒ Никого они никуда не отправляли, и нечего меня подставлять… Это всё казаки гуртуются. Они, видно, и Семёна подбили. Едут группами на Кавказ, там проходят подготовку, а потом их переправляют к месту спецоперации…
‒ И что, нельзя ни у кого ничего узнать? ‒ ахнула дочь.
‒ Может, и можно, ‒ холодно сказал Герман, ‒ да только нужно знать, к кому обратиться. Но у меня таких людей нет. Так что ждите известий от самого! ‒ хотел добавить и съязвить, что, мол, сами выживали Семёна, а теперь квохчете курами, но промолчал.
Прошло несколько дней после этого разговора, и в какой-то момент Герману стало ни до чего на свете: ни до жены, ни до внучки и дочери, ни до глупого зятя. Даже конкурс вновь перестал волновать, потому что деньги на него поступать почти перестали, а клянчить стало не у кого: все литераторы с деньгами проявили себя, теперь ждут щедрых премий, понимая, что конкурс хотя и организован для всех желающих, но награды и дипломы получат лишь избранные, кто проявил большую щедрость. Ему же надоели и опротивели потуги литературных бездарей, и почему-то с каждым днём всё сильнее захотелось посмеяться над ними, ткнуть рылом в дерьмо, которое они считают гениальными произведениями. Вот только напрямую этого не скажешь, а что-то доказывать каждому по отдельности ‒ это уж слишком для них, не по чину. И он решил «кинуть» всех. И не просто, а поглумиться, насладиться их утробным визжанием. Конечно, потом они попытаются вернуть вложенные в фонд деньги, но как докажут это, если деньги передавались из рук в руки, движения по расчётному счёту нет, поскольку финансовые операции не проводились, а у фонда нулевой баланс. Лучшим вариантом в этой ситуации ‒ залечь на «дно», затаиться, может даже надолго заболеть, а потом, например, перенести подведение итогов на другой год, сославшись на сложную обстановку в стране, тем более что в положении о конкурсе умышленно не указан срок проведения конкурса. Это, как теперь оказалось, пришлось к месту и лишало какой-либо ответственности и давало возможность растворится во времени, заболтать ситуацию, если деньги лишь в собственном списке отпечатались в голове Чернопута да ещё в каком-то особом списке. И никто об этом не ведает, кроме его самого и сейфа, где всё хранится.
Задумав такую аферу, Герман не стремился к обогащению, потому что деньги фонда небольшие, для него серьёзного значения не имевшие: ему лишь хотелось моральной победы над творчески похотливыми литераторами: оставить конкурсантов с носом ‒ стало жгучей идеей. Очень хотелось покуражиться над теми, кто всю жизнь мешал, кто лез вперёд, расталкивая локтями окружающих; у некоторых, замечал он, локти на пиджаках были основательно стёрты, и они прикрывали дыры, нашивая на них кожаные заплатки, бывшие модными лет тридцать назад, но дыры всё равно вылезали по бокам.
11.
Ни жена, ни дочь, конечно, не догадывались о задумке Германа Михайловича. Маргарита устала от домашних забот, занимаясь воспитанием внучки, по-научному готовя её к школе, так как считалась педагогом по образованию, хотя ни одного дня не работала. Она в последние дни похудела от переживаний, перестала напоминать цветущую пышную розу, какой была совсем недавно. Ксения же после бегства мужа оказалась и вовсе предоставленной сама себе, и то ли весна подействовала, то ли захотелось хоть как-то навредить ему за то, что бросил, поэтому в какой-то момент по-иному начала поглядывать на компьютерщика Максима. Он появился минувшей осенью, частенько заглядывал к ним в бухгалтерию, когда возникали проблемы с техникой, и никто почти не обращал на него внимания: среднего роста, худощавый как подросток, хотя ему было за тридцать, ходил вечно в облезлых джинсах и мятой клетчатой рубахе, нахальный. Может, поэтому начал заглядываться на Ксению, когда от кого-то узнал, кто её отец, и с каждым днём всё настойчивее, но она запросто отшила, едва он в очередной раз попытался проводить.
‒ Максим, не старайся. За мной машина придёт! ‒ заносчиво сказала Ксения, подчёркивая свой не самый низкий статус, зная, что должен заехать Семён на BMW.
Сообразительный, конечно, Максим понял её высокомерие и отшутился: мол, тогда не смею, задерживать, а сам помаленьку отдалился, не стал напоминать, что живёт в трёхкомнатной квартире, но, в какой-то момент, осмелев, всё-таки пригласил на чай, узнав, что её муж уехал в командировку. Ксения потом ругала себя, что проболталась сослуживицам, когда муж поехал в Набережные Челны получать машины для автобазы, да задержался на несколько дней. Подруги, видимо, и шепнули Максиму: мол, не теряйся… И он не растерялся, а она воспользовалась приглашением и поехала в гости. Думала, что он возьмёт такси, а они долго ехали на автобусе. Мать Максима их встретила, видимо, предупреждённая сыном, поужинала с ними, а потом ушла в свою комнату и более Ксения её не видела в тот вечер. У неё, действительно, была мысли остаться на ночь, даже предварительно наврала матери, что поедет навестить больную подругу, и попросила чем-нибудь занять дочку, но Виолка, будто нарочно, стала звонить каждые десять минут и ныть, что очень соскучилась и ждёт не дождётся любимую мамульку…
‒ Извини, Макс, ничего сегодня не получится. Дочка плачет, домой зовёт. Не могу я так! ‒ сказала Ксения, и начала одеваться.
Но обычно обходительный вдруг часто задышавший Максим оказался диким и не отёсанным. С неожиданным напором он приказал:
‒ Раздевайся!
Не дожидаясь, когда она начнёт шевелиться, чуть ли не силой попытался стащить с неё одежду, что для Ксении было в новинку, но именно от этого она будто потеряла голову. Всё-таки стеснительно поглядывая на Максима, сама быстро разделась, побросав одежду на стул и мимо стула, и упала в его объятия, показавшиеся сильными и крепким. Произошло то, что ожидалось и желалось, и они лежали и приходили в себя, счастливо поглядывая друг на друга и улыбаясь. Вскоре Ксения попыталась подняться, чтобы собираться домой, но Максим резко и зло вновь опрокинул её; она хотела что-то сказать, но он зажал ей рот поцелуем, и она ослабла, покорно сдалась, очень желая сдаться. Через полчаса она уже ехала от Максима на такси, и долго потом дома рассказывала о якобы болевшей подруге, которой даже продуктов принести некому.
‒ У неё, случаем, не ковид? ‒ забеспокоилась Маргарита.
‒ Мам, я совсем, что ли, «ку-ку»?! Она на машине в аварию попала. Долго в больнице лежала, а теперь по квартире на костылях скачет.
Та встреча оказалась не единственной, и когда Семён вероломно бросил её, Ксения частенько навещала «больную» подругу, отчего Маргарита всё чаще спрашивала:
‒ Как выздоравливает она? Уж что-то засиделась дома?! ‒ и подозрительно посматривала на дочь, дожидаясь от неё откровений.
‒ Ей ещё две операции делали, ‒ отговорилась Ксения.
Но когда и Герман Михайлович заинтересовался частыми отлучками дочери, то Маргарита в один из вечеров навязчиво пристала к ней с допросом, и Ксения созналась во всём:
‒ А что мне делать, если Семён за месяц лишь раз позвонил?
‒ Но ведь позвонил же! Значит, живой, радуйся!
‒ Радуюсь, но на душе всё равно неспокойно и от одиночества с ума схожу.
‒ А ты как думала… В войну жёны мужей годами ждали, а на чужих постелях не валялись. Эх, доча, доча… Прекращай. Гадко это всё и скверно. Хорошо ещё, что отец не знает.
‒ Мне, что, ещё и ему доложить? Ему до нас и дела нет! Словно мы не существуем. Даже с внучкой перестал играть. Сам по себе живёт.
‒ В общем, я тебе своё слово сказала. А далее сама думай, не маленькая.
Ксения не знала, рассказала ли мать отцу о её похождениях, но заметила, что тот перестал вообще замечать её. Она не могла знать, что творилось на душе у отца, потому что родители не посвящали её в свои финансовые дела. Да она особо и не любопытничала, знала только, что дом в Барселоне отец продал, а деньги… И в неё будто кто-то стрельнул: деньги, где деньги?! Ведь с началом специальной военной операции на Украине все активы в Европе либо заморозили, либо конфисковали. Вот отчего отец сам не свой ходит. Поневоле задумаешься и озаботишься. А у него это, видимо, дальше пошло: о чём ни спросишь ‒ либо молчит, либо отвечает невпопад. А как-то расплакался, разрыдался, да так, что пришлось вызывать «скорую». Какого-то особенного расстройства здоровья врач не обнаружила, сделала ему успокаивающий укол и посоветовала, не отрываясь от авторучки:
‒ Завтра обратитесь к участковому врачу и подумайте о поездке в санаторий, но сначала надо полечиться в клинике нервных заболеваний. Усталость накопилась у вас, и быстро от неё не избавиться. На её фоне обострилась вегетососудистая дистония. Лучшее избавление от неё ‒ покой и отдых, а лекарства за две-три недели значительно улучшат ваше состояние. Думаю, вы можете позволить себе качественное лечение. Я сейчас выпишу рекомендацию, а врач окончательно оформит направление.
‒ К психиатру?
‒ Зачем же так резко? Я же сказала: участковый терапевт подскажет, что необходимо делать.
Маргарита утром мягко напомнила о вчерашнем визите врача, посоветовавшего лечить дистонию. И поторопила:
‒ Так что собирайся, дружок, надо тебе заняться здоровьем.
‒ Почему ты разговариваешь со мной таким тоном?! Ехидным и издевательским. Поеду я только на работу, и никуда более!
‒ Обо всём подумал?
‒ Да, обо всём, обо всём!
‒ Тогда, как хочешь, так и живи.
Но Герман Михайлович и на работу не поехал, устроив квартирный бунт. Начал бросаться обувью в жену и плеваться в водителя, пришедшего на подмогу, а потом выхватил из-под подушки нож и пригрозил:
‒ Кто приблизится, жалеть не стану…
От него отшатнулись, а он, продолжая грозить, сел около кровати и неожиданно уснул, повалился на ковёр, безвольно раскрыв рот. Привели его в чувства врач и два санитара, вызванные Маргаритой, и почти сонного повезли в психиатрию. Герман Михайлович в машине крутил головой, оглядывая санитаров, и, указав на потолок «скорой», над крышей которой голосила сирена, попросил, будто они за кем-то гнались:
‒ Не упустите их!
12.
Когда Германа поместили в клинику, Маргарите пришлось чуть ли не каждые пять минут объяснять звонившим мужу, что, мол, его госпитализировали с инфарктом, и что более она ничего не может сказать. Доложила об этом и его секретарше, а та замучила вопросом:
‒ Нельзя ли перемолвиться с ним хотя бы двумя словами?
‒ Нельзя… Он находится в реанимации, и этим всё сказано. А вы передайте его заму, чтобы тот временно взял на себя заботы по управлению фирмой, а как только у Германа Михайловича появится возможность, он позвонит.
Отключив телефон, Маргарита связалась с приёмным покоем клиники:
‒ Недавно к вам поступил Герман Чернопут. Когда можно будет поговорить с его лечащим врачом?
‒ Сегодня вряд ли, ‒ ответила женщина, как показалось, что-то жевавшая. ‒ Приезжайте завтра в первой половине дня и обратитесь в регистратуру.
‒ Спасибо! ‒ только и смогла сказать Маргарита и долго сидела, обдумывая ситуацию, не сулившую ничего хорошего.
Отвлёк телефонный звонок. Посмотрела ‒ номер незнакомый. Всё-таки активировала.
‒ Здравствуйте, Маргарита Леонидовна!
‒ Вы кто?
‒ Подберёзов я, Валентин… Звоню Герману Михайловичу и не могу дозвониться.
‒ Он в больнице с инфарктом. А вы по какому вопросу?
‒ Творческому… А он действительно в реанимации?
Маргарита спросила, не удосужив Подберёзова ответом:
‒ И откуда у вас мой номер телефона?
‒ Герман Михайлович когда-то дал на всякий случай… Хотел у него узнать, как быть с деньгами, которые жертвуются в фонд?
‒ Вот чего не знаю, того не знаю. Деньгами распорядитесь так, как всегда распоряжались, ‒ нашлась она.
Отключив телефон, Маргарита ухмыльнулась, подумала о муже: «Ну и жук! Со всех сторон деньги гребёт! Ведь ничего о фонде не говорил… И где же он деньги прячет? У этого Подберёзова, что ли?».
Мысль о деньгах, о которых она ничего не знала, начала преследовать её. Если ранее они с Германом во всём доверяли друг другу, то теперь в ней закралось сомнение. «Вполне может быть, что это ‒ не единственная неизвестная заначка, ‒ подумала она, вспомнила дом в Барселоне и встрепенулась: ‒ А может, и не продешевил, а припрятал деньги в тайном месте, а мне лапшу вешает. И ведь до них теперь не доберёшься, а если и доберёшься, то не сразу, и неизвестно при каких обстоятельствах, и с какими последствиями». От таких мыслей в ней вдруг всё перевернулось, вместо жалости и сострадания к мужу проснулась обида, да такая, что ей стало не хватать воздуха, и сердце как-то нехорошо застучало. Она хотела позвонить дочери в надежде узнать что-нибудь от неё, но не решилась, понимая, что ещё один человек будет знать о том, о чём муж умалчивает. «Действительно, хитромудрый Танкист!». От всех душевных нестроений Маргарита решила на следующий день в клинику не ездить, обойтись телефонным разговором, предполагая, что вряд ли её пустят к Герману в закрытой больнице. Решила ‒ и правильно сделала.
Поговорила с лечащим врачом, раздобыв телефон отделения в регистратуре, и узнала, что Германа, как минимум, станут понаблюдать около десяти дней, а если подтвердятся худшие подозрения, то оставят ещё на два месяца, чтобы сложить полную картину течения болезни. Словам доктора Маргарита верила и не верила. Ну, не мог так быстро человек лишиться рассудка, если два-три дня назад был вполне здоровым, немного, правда, взвинченным, но с кем не бывает чего-то похожего. «А может, это как раз тот случай, когда болезнь накрывает внезапно, ‒ думала Маргарита. ‒ Ох-хо-хо… Одни вопросы!».
Тем не менее, немного успокоилась, рассчитывая на его скорое возвращение, и даже слегка злорадствовала в душе, вспоминая, как он в последние дни трепал нервы, хотя и без его заморочек доставалось. То с дочерью воевала, то внучку успокаивала, говоря, что папа вот-вот вернётся из командировки, ничего конкретно не говоря о «непутёвом» отце. Никто в семье не знал, когда он связался с казаками, неожиданно быстро сдружился с ними, зачастив на мероприятия. Иногда они организовывали дежурства в общественных местах, встречались со школьниками, студентами. Всё это «любо», как они, бравируя, говорили, но вот в памяти остался один эпизод, когда, попав на какое-то чествование, Семён был свидетелем того, как некий казачий чин накричал на подчинённого, унизил при его собственной жене… Та уж было поднялась из-за стола, чтобы покинуть крикливое собрание и увести за собой мужа, но их всё-таки уговорили остаться. Вроде объяснились, но едкий осадок у них наверняка остался, если он остался даже в душе Семёна. Впрочем, он всё понимал: ведь живые люди, и как они ни называй себя, ими и остаются со всеми слабостями и каверзными привычками.
Зато, попав с дюжиной казаков в добровольческий центр в Гудермесе, Семён понял, что они вполне нормальные. Пробыв вместе две недели, он уж и не называл их как-то по-иному: только «брат». Армейская спайка приходит через пот, это он знал по службе. Но именно теперь, набегавшись, наползавшись до судорог в ногах и руках, иногда под дождём, в грязи или по мокрому щебню, он по-настоящему понял суть военной службы, а подробное изучение автомата, подствольника, отработка навыка владения ножом и применения гранат пропитала его духом воина. Да и сам он внешне изменился: загорел, похудел, слегка курносый нос обострился, а волосы выгорели; от прилива энергии ему казалось, что может легко выполнить любое приказание. Он учился в своём же отделении, где было много участников «горячих» точек или недавно отслуживших по контракту. В первое время, когда вечерами собирались в курилке, над ним подшучивали, говорили, что опыт дело наживное, главное, спиной к противнику не поворачивайся. Семён не обижался, не тушевался, понимая, что он доброволец, и для него ещё есть время учёбы, потому что, когда они окажутся один на один с противником, будет не до подсказок. О себе он не думал до того момента, когда их сборные роты, в которых были и казаки, и бывшие краповые береты, и чеченцы-спецназовцы, посадили в транспортные самолёты и отправили в Ростов, а после доставили на боевую позицию под Рубежное. Здесь рядовой Прибылой потуже застегнул бронежилет, поглубже нахлобучил каску, проверил патроны в магазинах, в скоротечных и сумбурных мыслях представляя, как будет выглядеть его первый бой. Когда же в отделение прислали нескольких бойцов, успевших «понюхать пороха», это придало уверенности, словно подоспели старшие братья, а с ними ничего не страшно.
Первое столкновение произошло совершенно неожиданно, когда его рота выдвинулась на «передок» и заняла вдоль лесополосы свежие окопы, из которых днём ранее выбили противника. Бойцы услышали свист мин со стороны зеленевшего перелеска и попадали на дно окопчиков. Ждали приказа на атаку, но пришлось самим отстреливаться, увидев фигурки врагов, продвигавшихся перебежками... Похоже, даже старшие командиры не ожидали появления на другой стороне балки противника. «Разведка боем!» ‒ кто-то крикнул вдоль линии окопов, и поступил приказ ротного: «Приготовиться к отражению атаки!». До врагов было метров сто пятьдесят, надо было подпустить поближе, и Семён, дождавшись приказа «Огонь!», первым жахнул короткой очередью в полусогнутый абрис противника.
Справа и слева застучали автоматы; стрелять начали и в ответ, хотя кто и откуда стрелял, было практически не видно из-за прошлогоднего бурьяна; лишь сизый дым от выстрелов указывал на противника. Кто-то вскрикнул и застонал справа от Семёна, и он увидел, как зажал окровавленную руку «краповый» Лёха, ходивший в тельняшке с красными полосами.
‒ Ты как? ‒ машинально крикнул Семён и увидел, как тот отмахнулся:
‒ Ерунда. Пуля срикошетила.
А далее, словно по команде, раздалось несколько выстрелов из гранатомётов с нашей стороны, словно в отместку. Видимо, поняв, что с наскока не удастся пробиться, подхватив обвисшего на руках раненого, противники начали отходить к лесу под прикрытием парочки своих. Вскоре раненый совсем обмяк, и они его бросили. Огрызаясь из автоматов и подствольников, ранили ещё одного нашего, и тоже в руку, осколком гранаты, но вскоре начался интенсивный обстрел с нашей стороны, отступавшие залегли, а в короткие перерывы между разрывами ломились через поле до следующего лога.
Этот короткий бой Семёну показался бесконечным. Когда всё вроде бы стихло ‒ лишь на правом фланге бригады шла отдалённая перестрелка, провели перекличку, и оказалось, что в их взводе несколько раненых. Их перевязали, а одного вывели в тыл и отправили на эвакуационной машине в медсанбат. Первый бой, как оказалось, не был самым трудным, но стал самым запоминающимся изо всех далее случившихся.
Семён воевал вторую неделю, когда ранили его самого: пуля прошила голень навылет, задела артерию, он потерял много крови; из госпиталя его ночью переправили в Ростов, где прооперировали и, накачав лекарством, погрузили в сон. Чувствуя, что засыпает, он понял, что теперь жизнь вне опасности, надо хорошенько отоспаться, потом позвонить домой и ждать выздоровления. Жалел лишь об одном: что так быстро закончилась фронтовая эпопея.