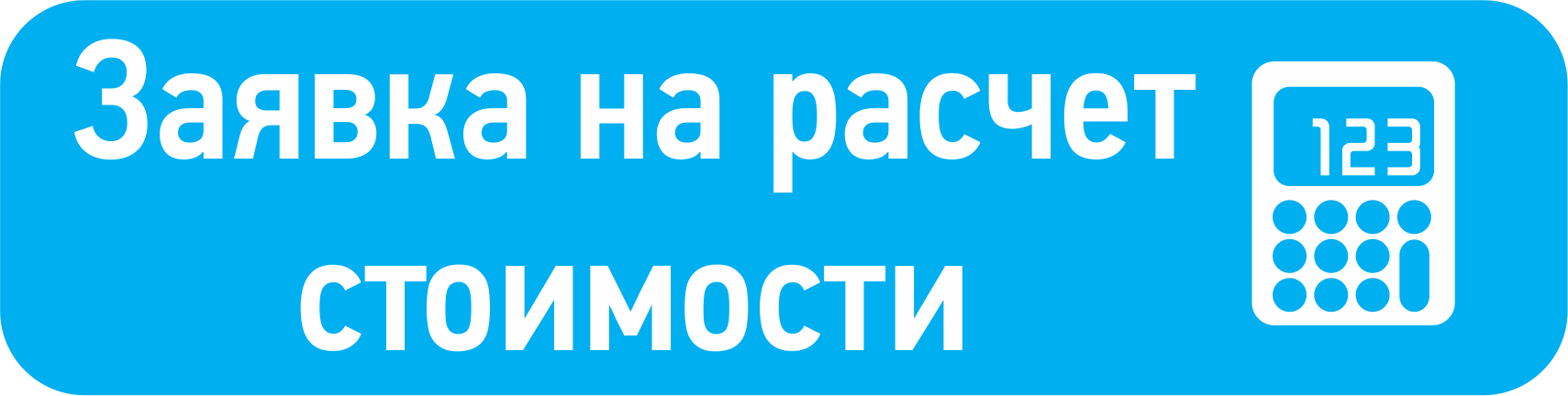В будни Семён оставался один, приходя с работы, он зависал в ютубе, и более всего его интересовали бои на Донбассе и под Херсоном. Он ещё летом заметил, что снизился темп наступления, войска явно устали, хотя, надо думать, их периодически выводили на отдых и переформирование, но личного состава не хватало для растянутого более чем на тысячу километров фронта, а где в редкую нитку и закрывали его, там оголялся тыл, ибо отсутствовала вторая линия сдерживания, необходимость которой осознавали даже «диванные» эксперты: об этом все говорили на популярных передачах, но далее теоретического осознания надвигающейся угрозы практически ничего не делалось, чтобы взбодрить ситуацию. И было понятно, что уж если с каждым днём страна всё более втягивалась в конфликт, постоянно обострявшийся западным участием и мобилизацией с украинской стороны, то и самим необходима мобилизация, причём, во всех смыслах. Редкие удары по инфраструктуре глубинных районов Украины наносились, но они не могли обеспечить значительного поражения, если по-прежнему в Киев прибывали поезда с западными «гостями», будто дразнящими своим присутствием людей по ту линию фронта. Они свободно разгуливали по городу с украинским президентом, фотографировались, и создавалось впечатление, что ничего особенного не происходит в стране, если фронт от столицы чуть ли не в тысяче километров, при этом «калибры» достают всю территорию противника, но почему-то почти не трогают Киев и его инфраструктуру. Вот же вдарили по харьковской ТЭЦ и по электрическим сетям иных городов, обесточили их, погрузив в темноту, но вскоре забыли эту тему, почему-то ограничившись ударом по плотине на реке Ингульце, тем самым ввергнув в печаль желающих побыстрее закончить кровопролитную операцию. Дававшиеся объяснения о защите мирного населения теперь уже окончательно в расчёт не принимались, особенно когда в начале сентября Украина, проверив себя на Херсонском направлении и ничего там не добившись, начала массированное наступление восточнее Харькова. Очень быстро союзные войска попятились и с неожиданной быстрой сдали Балаклею, Изюм, не задержались в Купянске, дошли до Лимана, но и его в конце концов оставили. То есть предали местное население, поверившее федеральным войскам и военно-гражданским администрациям. Часть населения вместе с учителями, полицейскими успели всё-таки эвакуировать, но осталось много и тех, кому предстояло пройти фильтрацию нацистов, издевательства и испытать на себе их пещерную злобу.
В будни Семён оставался один, приходя с работы, он зависал в ютубе, и более всего его интересовали бои на Донбассе и под Херсоном. Он ещё летом заметил, что снизился темп наступления, войска явно устали, хотя, надо думать, их периодически выводили на отдых и переформирование, но личного состава не хватало для растянутого более чем на тысячу километров фронта, а где в редкую нитку и закрывали его, там оголялся тыл, ибо отсутствовала вторая линия сдерживания, необходимость которой осознавали даже «диванные» эксперты: об этом все говорили на популярных передачах, но далее теоретического осознания надвигающейся угрозы практически ничего не делалось, чтобы взбодрить ситуацию. И было понятно, что уж если с каждым днём страна всё более втягивалась в конфликт, постоянно обострявшийся западным участием и мобилизацией с украинской стороны, то и самим необходима мобилизация, причём, во всех смыслах. Редкие удары по инфраструктуре глубинных районов Украины наносились, но они не могли обеспечить значительного поражения, если по-прежнему в Киев прибывали поезда с западными «гостями», будто дразнящими своим присутствием людей по ту линию фронта. Они свободно разгуливали по городу с украинским президентом, фотографировались, и создавалось впечатление, что ничего особенного не происходит в стране, если фронт от столицы чуть ли не в тысяче километров, при этом «калибры» достают всю территорию противника, но почему-то почти не трогают Киев и его инфраструктуру. Вот же вдарили по харьковской ТЭЦ и по электрическим сетям иных городов, обесточили их, погрузив в темноту, но вскоре забыли эту тему, почему-то ограничившись ударом по плотине на реке Ингульце, тем самым ввергнув в печаль желающих побыстрее закончить кровопролитную операцию. Дававшиеся объяснения о защите мирного населения теперь уже окончательно в расчёт не принимались, особенно когда в начале сентября Украина, проверив себя на Херсонском направлении и ничего там не добившись, начала массированное наступление восточнее Харькова. Очень быстро союзные войска попятились и с неожиданной быстрой сдали Балаклею, Изюм, не задержались в Купянске, дошли до Лимана, но и его в конце концов оставили. То есть предали местное население, поверившее федеральным войскам и военно-гражданским администрациям. Часть населения вместе с учителями, полицейскими успели всё-таки эвакуировать, но осталось много и тех, кому предстояло пройти фильтрацию нацистов, издевательства и испытать на себе их пещерную злобу.
Всё это не давало покоя Семёну, получалось, будто бы зря он срывался добровольцем в желании помочь стране, русским людям на Украине, получил ранение и много семейных проблем. В какой-то момент у него вновь мелькнула мысль отправиться на фронт и доделать прерванное дело, потому что не мог спокойно относиться к тому, что происходило на юго-востоке Украины, к каждодневным обстрелам Донецка, Горловки, Макеевки и других городов. Нацисты дотянулись и до Херсона, Мелитополя ‒ везде и всюду им не давали покоя русские, хотя почти все они говорили на одном языке, ничем внешне не отличались, но в них жило главное отличие: проданная дьяволу душа. Именно это толкало их на безумные поступки, такие как постоянные обстрелы Запорожской атомной станции. Это-то как можно объяснить? Каким умом надо обладать, вернее отсутствием его, чтобы забыть обо всём на свете, даже о себе, своих семьях. О других же людях они, очевидно, вовсе не думали, и создавалось впечатление, что всё делали для того, чтобы поломать всё и вся, лишь бы возвыситься, лишь бы услужить западным хозяевам, накачивавшим страну вооружением и ненавистью.
В соцсетях наряду с пожеланием победы нашим воинам пользователи крепко выражались, не стесняясь натурализма, потому что они желали и ждали от них победы, искренне сочувствовали им и молили Бога о заступничестве, и у всех витал вопрос: «Когда, когда же объявят мобилизацию?!». И вопросы эти касались всех, кто понимал, что нельзя успешно воевать, когда противная сторона превосходит в пять-шесть раз наши войска в личном составе. И сколько не будь воин храбр и стоек, но даже такие качества будут бессильны при неравном соотношении сил. Особенно при нерасторопных генералах, руководящих операцией. Их уж несколько сменилось, но видимого изменения на фронте не происходило. Не находилось пока такого, кто мог честно доложить Верховному главнокомандующему и рассказать народу правду о мешающих причинах, о том, что надо исправить, а что и вовсе кардинально поменять, но для этого необходимо выделиться из общего строя, показать себя наособицу, но как преодолеть инерцию и несогласованность, незаметную в мирное время, но теперь торчащую из всех щелей военной машины.
Чем сильнее Семён «накачивал» себя подобными мыслями, тем тревожнее становилось. Даже мелькнула мысль: «А не пойти ли вновь добровольцем?». Как-то заглянул к казакам, пытаясь понять их настроение, но никого в офисе не увидел, кроме дежурного, сидящего на телефоне. Перекинулся с ним парой слов и понял, что все разъехались: кто на даче сидит, кто к тёще на блины отправился.
‒ Вот с октября зашевелятся, ‒ отозвался мухортый мужик, парящийся от жары в форме хорунжего и игравший в шахматы сам с собой.
‒ Тогда бывай здоров! ‒ пожелал напоследок Прибылой и подумал: «Как бы поздно не было!». И сразу отругал себя: «Чего это я? Раньше времени навожу тень на плетень, как отец говорит!».
Его настроение передалось и Людмиле.
‒ Ну, что ты всё маешься?! ‒ укорила она, среди недели оставшись ночевать у него. ‒ В армии есть командование, им виднее. А что от тебя может зависеть?
‒ Многое…
Его ответ повис в воздухе, остался без комментария. Она лишь прижала его к себе:
‒ Не переживай! Всё хорошо будет! Без тебя обойдутся. Ты себя проявил, ранение получил, в госпитале лежал. Все были бы такими патриотами!
Но с этим заклинанием Людмилы он был не согласен и понимал: чем большая неопределённость копится на фронте, тем сильнее крепнет понимание того, что без него лично она благополучно не разрешится. И пусть он мелкая песчинка в общем потоке событий, но именно её, может, и не хватает для склонения противостояния. Он был в этом убеждён на сто процентов, и никто не мог отговорить его поверить в обратное, но необходим был какой-то случай, чтобы он сдался душевному порыву и вновь отправился на Донбасс.
Поэтому не стал ни спорить с Людмилой, ни одёргивать её. Привыкнув к ней за последний месяц, Семён понял, что она совсем не такая, какой бывает экономист. Экономисты ‒ это особый тип людей, ко всем на свете относящиеся со своим представлением, когда надо вывести какой-то общий знаменатель для новых разработок и планирования производства или эксплуатации чего-то, тем самым добавляя себе важности. Все эти определения не особенно подходили к Людмиле, только в первые дни показавшейся шустрой и языкастой, с завышенной самооценкой. Пообщавшись с ней неделю-другую, он понял, что она совсем иная. Другая начала бы безмерно соваться в его жизнь, узнавать что-то о жене, о новой квартире, со вкусом отделанной и стильно обставленной, но Людмилу это особенно не интересовало. Она словно делала вид, что всё это ей безразлично, а главное для неё ‒ он сам. Для него же главное, что она есть, она рядом, он устраивает её, с ней ему почему-то всегда становилось легче и спокойнее. И чем чаще они встречались, тем больше хотелось встреч. В какой-то момент он даже подумывал, чтобы её поселить у себя, но, поразмыслив, понял, что это неосуществимо. Во-первых, он пока официально женат, во-вторых, не представлял, как быть с Валериком, если его надо забирать с продлёнки, сначала приучив к себе. А вдруг потом придётся расстаться под натиском неожиданно открывшихся обстоятельств. И то, что легко поймёт взрослый человек, ребёнок может воспринять как трагедию. Из всего этого Семён понял, что это пока не для него, и усмехнулся: «Слабоват ты, брат, в коленках, если ищешь оправданий, если мальчишка всё ещё остаётся чужим».
Напряжение в стране от событий последних недель всё обострялось, всё сильнее возвышали голос неравнодушные люди, и вдруг в один из дней прошёл слух, что в ближайшее время Верховный выступит перед народом с обращением. До конца дня не дождались, зато на следующее утро, 21 сентября, в 9:00 обращение прозвучало.
Прибылой только пришёл на работу и увидел, что в каждом углу мужики торчат у смартфонов. Он тоже присоединился к мужикам и начал вслушиваться в слова Верховного. После общего анализа ситуации прозвучали столь ожидаемые, как и столь неожиданные, слова о частичной мобилизации, которых ждали и боялись, до конца не понимая, как они отразятся и подействуют на всех.
Подействовали, сразу посыпались комментария, хождения туда-сюда, со всех сторон слышалось:
‒ Теперь держись, мужики!
‒ Где наша не пропадала…
А кто-то, наоборот, как сидел перед экраном, так и остался сидеть, хмуря лоб от нахлынувших мыслей. Семён прошёл к директору автобазы, отложившему бумаги, спросил:
‒ Слыхали, Джоник Ашотович?
‒ О чём ты?
‒ Мобилизацию объявили. Частичную, но от этого мужикам не легче.
‒ Это мне теперь надо голову ломать. Тебе-то чего?! Вот если повестку пришлют, тогда другой разговор. Так что ни о чём таком не думай. Иди и работай!
Не стал Семён ему говорить, что если даже повестка задержится, то он вновь пойдёт добровольцем, если тоска и неопределённость безмерно душу гложет одиночеством. Устал он от него не только в последнее время, а с того времени, когда схлестнулся с Ксенией. До конкретного знакомства с ней он был просто Семёном, а когда расписался, стал зятьком Чернопута, и отношение к нему людей стало прохладным, почти никаким. Его тестя хорошо знали в городе, приписывали всякие небылицы, которые заставляли посторонних держаться от него подальше, Семён, получалось, с ним заодно ‒ это-то и отталкивало, превращало Прибылого в некую опасную вершину, с которой можно легко сорваться, если только попытаться забраться на неё без подготовки. Сначала Семён ничего этого не понимал, но, когда отучился и начал работать, с ним повторилась та же история. Ни с кем он никогда не поговорил по душам, не выпивал, не ходил на футбол или ещё куда-то, что могло бы по-товарищески объединить. Да что там сослуживцы. С ним даже родители стали говорить по-иному, более официально, что ли, как с начальником. Даже гибель брата не смогла полностью переключить родительское внимание только на него. Иногда Семёну казалось, что они более привязаны к внуку, а его Виолку, как продолжение Чернопута, не особенно жаловали. Это Семён заметил лишь в начале весны, когда отношения с Ксенией стали формальными, потом отчуждёнными, и невольно ему приходилось искать родственную душу среди иных людей, чтобы было к кому прислониться, поговорить откровенно; ведь не зря зимой появились казаки в его жизни. В семейной же жизни прижилась скрытность, он не хотел ничем делиться с женой, хоть капельку сокровенным. Получался некий замкнутый круг, а сам он становился похожим на подневольного зверька, бегущего и бегущего в колесе, и не было у этого бега конца.
Вернувшись в свой стеклянный кабинет-кабинку в углу ремонтного цеха, зачем-то начал перебирать накладные и наколотые на дырокол заявки на обслуживание, словно ему уже пришла повестка и необходимо срочно покинуть рабочее место. Тем временем об объявленной мобилизации поговорили-поговорили и занялись производственными делами, хотя каждый молодой мужик примерял на себе прозвучавшую новость. Некоторые без конца кому-то звонили, морщили лбы, и не были похожи на самих себя. У Семёна даже и в мыслях не имелось желания кому-то позвонить, что-то обсудить. Он всё обсуждал в уме с самим собой, намечая, что ему нужно сделать, когда придёт повестка, а если её не будет в ближайшие дни, то всё равно надо быть готовым к добровольной мобилизации ‒ это решение было обдуманным, твёрдым и не подлежащим пересмотру, кто бы что ни сказал.
21.
В середине дня Семёну неожиданно позвонила Маргарита Леонидовна и всхлипывающим голосом начала жаловаться, говоря о каком-то Валентине Подберёзове, требующем сто тысяч рублей, переданных мужу на конкурс. А она знать ничего не знает о каких-то неподъёмных суммах.
‒ Это всё секретарша Германа навыдумывала. Мало ли какие деньги были у покойного мужа? И откуда же мне знать, куда он их дел? И зачем тогда нервы трепать, они и без того на пределе: внучка на руках, дочь запропастилась. Что делать, Семён? Хоть ты подскажи что-нибудь?
‒ А что сказать… Вы лично деньги принимали от кого-нибудь? Если не принимали, значит, гоните всех прочь ‒ пусть спрашивают у того, кому отдавали!
‒ Так ведь он угрожает!
‒ Припугните, что, мол, телефонный разговор записывается, хотя и без этого распечатку всегда, при необходимости, можно поднять. Это запросто делается. И напишите заявление в полицию. Так что постарайтесь быть спокойной, это я к тому, что вскоре мне придётся уехать.
‒ Куда это?
‒ А вы разве не знаете, что мобилизация объявлена. Скорее всего, и мне повестка придёт. В таком случае вы не забывайте, что у вас есть сват и сватья и они всегда помогут с Виолкой в случае чего. А что Ксения? Так ни разу и не звонила?
‒ Только из Еревана в самом начале, потом из Барселоны, и более от неё ни слуху ни духу, а уж три месяца минуло.
‒ Её сопровождающий ‒ надёжный человек?
‒ Откуда мне знать, я его и видела-то только раз. Такой весь кручёный.
‒ Всё-таки напишите повторное заявление в полицию. Время сейчас тяжёлое, непонятное, но пусть оно будет лежать в отделе, им лучше знать, что делать… Как Виолка?
‒ Грустная ходит, спрашивает, когда мама приедет. Хоть бы ты заглянул. Вот дочка хочет с тобой поговорить. Передаю ей трубку.
‒ Пап, когда приедешь? Жду и жду тебя, а тебя всё нет и нет, ‒ услышал Семён плаксивый голосок и поспешил успокоить:
‒ Сегодня после работы. Обещаю. Ты только не грусти, всё хорошо будет.
Дочь по-взрослому сказала:
‒ Как не грустить, если мама и дедушка в командировках, а ты редко бываешь у нас.
От её недетских рассуждений он едва не задохнулся:
‒ Ну, потерпи немного. Скоро все вернутся, так что не переживай. Я тебя целую и обнимаю, до встречи, моя красотулька.
Виола вздохнула:
‒ Вот бабушка хочет поговорить.
‒ Хочу напомнить, ‒ взяла Маргарита трубку, ‒ что ты уже был на фронте, ранение получил, пусть теперь другие отличатся!
‒ Ну что же, что был ‒ жизнь продолжается.
‒ Вот именно: необходимо о себе думать, о дочке!
В этот момент Семён понял, что с тёщей можно говорить на эту тему бесконечно, и просто необходимо закруглить разговор.
‒ Врачи на медкомиссии решат, ‒ постарался он отговориться. ‒ Вечером приеду, ещё поговорим, а сейчас работы много. Вы сейчас где?
‒ В городе, поближе к врачам, а то я сама что-то хандрю, да и Виолка кашляет. Не забывай нас, ‒ вздохнула она и сама отключила трубку.
Семён не ждал волнения, но всё-таки разволновался от предстоящего расставания ‒ от всего, что перестроило мысли на ускоренный и тревожный лад. Ведь как ни храбрись, а в момент всё изменилось. И если к апрельской командировке он сначала относился, как к игре, то теперь надвигающиеся события выглядели по-настоящему серьёзно, даже грозно. Легко сказать, что готов послужить Родине и даже бравировать этим, гораздо труднее проникнуться своей необходимостью, созреть в душе, чтобы понимать, что без тебя не смогут обойтись, ты являешься той, пусть и крохотной частицей, которая, возможно, понадобится, чтобы перевесить противостояние в свою пользу. И одно дело рассуждать в душе, а другое вслух, когда каждое слово говорит о тебе, и бывает достаточно одного, чтобы понять – дрянь ты или действительно человек.
Хотя Семён и сказал Маргарите, что много работы, но она как раз и не шла сегодня на ум. Да и меньше её было: и на линии планового техобслуживания, и по заявкам, словно водители ни о чём не думали, кроме мобилизации. Ведь их-то одними из первых призовут, водители всегда в цене, всегда востребованы, их и гибнет много, ибо они при обстрелах желанная цель для противника. Хотя ныне водительскими правами не удивишь, они почти у всех мужиков, но профессионалов среди них раз, два и обчёлся. Так что вполне возможно попасть при отправке в одну партию с кем-то из своих. А то в прошлый раз он так ни с кем по-настоящему не познакомился, не говоря уж о том, чтобы сдружиться. В памяти только и остался краповый берет Лёха. И где он теперь, что с ним ‒ бог весть, если они даже не успели обменяться адресами и телефонами: почему-то в первых боях не думалось ни о каких ранениях, и казалось, что парни будут всегда рядом. Впрочем, как говорили старики, на войне, да ещё в пехоте, редко кто долго дружит: так или иначе, а судьба всё сделает, чтобы размотать по сторонам и по разным адресам. Это от чьего-то желания не зависит. Как Бог даст! Хотя обо всём этом надо поменьше думать и озадачиваться, как говорили древние: «Делай что должно, и будь что будет!».
Еле-еле отработал Прибылой смену, а вышел за проходную, не зная, что делать из-за свалившихся забот. Вспомнив разговор с тёщей и дочкой, сначала решил заехать к ним. В магазине накупил сладостей, фруктов, подумав, по-хозяйски решил, что и овощи не помешают, а потом накупил говядины, колбас, сосисок, сыра двух сортов, молочку. Когда появился с пакетами перед Маргаритой, та ахнула:
‒ Это что сегодня с тобой, парень?!
‒ А что не так?
‒ Непривычно как-то…
‒ Кто вам теперь поможет, как не я, ‒ сказал и посмотрел на подбежавшую дочку, которая, правда, ничего не поняла.
Семён её расцеловал, взял на руки и вдруг понял, что никогда не относился к ней с такой любовью, как сейчас, именно в эту минуту, будто уже расставался. Подумал об этом и отругал себя: «Ну, что я сам себя накручиваю? Ведь ничего пока неизвестно! Всё в тумане!».
‒ Поужинаешь с нами? ‒ спросила Маргарита.
‒ Запросто!
Он сходил умылся, потрепал себя по щекам, словно прогоняя из головы лишние мысли, и вскоре сидел за столом рядом с дочкой.
‒ А ведь мы так сто лет не собирались! ‒ вздохнул и обнял Виолку, посмотрел на Маргариту и подумал: «Ведь совсем недавно я посылал всех Чернопутов куда подальше, мол, надоели, а как жизнь всё выравнивает. Тогда был по-настоящему зол от обиды на жену, на всех, кто окружал в этом доме, словно легла тень от домашнего затмения, а теперь Маргарита чуть ли не лучший друг!».
Подумав так, он не стал обольщаться, зная, что тёща сейчас припёрта обстоятельствами, она растеряна, даже напугана, и ей действительно не к кому прислонить голову. По сути, нынешние люди настолько стали редки в родственных отношениях, словно кто-то специально прополол два-три поколения, лишив их тяги к детям, если семьи ограничивались одним ребёнком, редко двумя. И теперь наступило такое время, когда действительно все стали одиноки, живут сами по себе, особенно, когда всё хорошо, да и в беде долго не печалятся ‒ остаются наедине с собой, отвыкнув от больших семей, а значит, многолюдных свадеб, дней рождений, похорон, когда все родственники на виду, при случае помогут, подскажут, старшие не бросят младших, так и живут семьями и родством. Теперь нет, теперь по-другому, хотя и в этом вопросе наметились лучшие изменения, когда государство вплотную занялось помощью семьям, ввело материнский капитал, и много молодых семей стало иметь по два-три ребёнка.
Поужинав, поиграв с дочкой в пупсиков, Семён начал собираться, решив заодно забрать берцы, защитную куртку и брюки, в которых приехал из госпиталя. По расцветке брюки от куртки отличались: первоначальные, которые получил в Гудермесе, были разрезаны при ранении и выброшены, эти же, выданные в госпитале, были коротковаты, но под берцы сгодятся. Он сложил вещи в пакет, а Маргарита вздохнула:
‒ Ну, вот что ты бежишь впереди паровоза? Ещё ничего не известно, а ты уж с вещами колготишься, ‒ укорила она и спросила о своём, насущном: ‒ Значит, говоришь, посылать мне куда подальше всех, кто будет требовать конкурсные деньги, о которых я знать ничего не знаю?
‒ Конечно! Пусть идут лесом и там ищут. И заявление в полицию напишите об угрозах.
‒ Хорошо, так и сделаю! ‒ согласилась Маргарита.
Расставшись с ней и дочкой, Семён хотел было позвонить Людмиле, ночевавшей накануне, но сдержался, чтобы взаимно не накручиваться неопределёнными разговорами, слушать ахи и вздохи о мобилизации, а ему так не хотелось попусту говорить об этом, когда неизвестно, что будет дальше.
22.
Утром, когда он собирался на работу, позвонили в дверь, и столь неожиданный звонок отозвался тревожным сердцебиением. Мелькнула мысль: «Вот и началось!» ‒ когда на пороге он увидел полицейского и курсанта военного училища.
‒ Вы ‒ Прибылой Семён Иванович? ‒ спросил он.
‒ Так и есть…
‒ Вам повестка о мобилизации. Прежде, чем расписаться о получении, предъявите, пожалуйста, паспорт, ‒ попросил полицейский.
Семён взял на полочке в прихожей приготовленный паспорт, отдал лейтенанту. Тот полистал его, убедился, что данные верны, а курсант попросил:
‒ Распишитесь вот здесь.
Прибылой расписался, курсант оторвал корешок с подписью, а Семёну отдал саму повестку, напомнил:
‒ На основании «Федерального закона о воинской обязанности и военной службе» вы обязаны явиться в Зареченский военный комиссариат завтра, то есть 23 сентября 2022-го года, к восьми часам утра! Иметь при себе повестку, паспорт, военный билет.
Они ушли, а он вздохнул, сел на банкетку и какое-то время сидел в оцепенении. Пытался разложить по порядку предстоящий день, но в голове полный сумбур, и ясно просматривалась лишь одна мысль: «Надо ехать на работу!». Он попытался позавтракать, но на еду смотреть не мог и отложил сковородку с омлетом. Лишь выпил чашку кофе с молоком и поехал на базу. В ремзону не стал заходить, сразу поднялся к директору и, поздоровавшись, положил повестку на стол.
Не читая, Джоник Ашотович, сморщив худое и без того морщинистое лицо, нахмурился, взглянув на бумагу.
‒ Что могу сказать? В другое время, Семён Иванович, на тебя бронь определили бы, но пока такой команды нет, да и вряд ли она будет. Ведь у нас частная компания, хотя есть ли теперь нечастные. Иди в бухгалтерию, получай причитающиеся деньги, но учти, что трудовая книжка остаётся у нас, так как за тобой забронировано место работы, и, когда вернёшься, займёшь нынешнюю должность. Это, так сказать, официальная часть, а от себя скажу, дорогой Семён: возвращайся поскорее живым и невредимым с Победой! Будем ждать тебя! ‒ Он поднялся из-за стола, подал, напутствуя, руку, обнял: ‒ Береги себя!
В бухгалтерии, где получили указание начальника, его вместе с ещё одним мобилизованным ‒ водителем из первой автоколонны ‒ рассчитали, вскоре появившаяся кассирша выдала причитающиеся наличными ‒ и всё, летите, орлы! Водителя, всего лишь год назад дембельнувшегося со срочной, звали Анатолием, он предложил отметить мобилизацию, но Семён отказался, сказав, что за рулём. Вернулся в ремзону, поговорил напоследок с мужиками и пошёл к проходной. Позвонила Людмила, осторожно спросила:
‒ Чего не звонишь? Какие новости?
‒ Новости? Разве не знаешь, что мобилизацию объявили. На войну завтра ухожу, повестку утром доставили ‒ вот такие новости.
Она ойкнула, и он услышал её всхлипывания.
‒ Ладно, не гони слезу. Будешь сегодня?
‒ Конечно. Пораньше с работы отпрошусь.
‒ Договорились. Я сейчас с работы, надо машину в гараж поставить да с дочкой побыть, а то когда ещё увидимся.
‒ Я поняла.
Семён заехал к тёще, коротко, пытаясь намёками объяснить ситуацию, чтобы дочка ни о чём не догадалась, и заметил, как белолицая Маргарита сразу почернела лицом.
‒ Беда, беда… Может, тебе какая отсрочка полагается? Чего же я одна, ‒ она кивнула на внучку, ‒ с ней буду делать?! А если с самой, не дай бог, что случится. Что тогда?!
‒ Говорил же вчера ‒ к сватьям обращайтесь. Всегда помогут. Телефон-то есть? Проверьте!
Она проверила, вздохнула:
‒ Вот они: Иван Семёнович и Вера Алексеевна.
‒ Всё правильно. ‒ Он написал на листке их адрес: ‒ Это на всякий случай. К тому же, в Москве у вас есть деверь, кажется, так называется брат Германа Михайловича.
‒ Да ну его… Ненадёжный человек.
‒ Ненадёжный сейчас, но всё может измениться. Ладно, пойду машину в гараж отгоню, заодно Виолку прокачу. Доча, если хочешь прокатиться, одевайся!
‒ А пончиков купим?
‒ Обязательно, как без них.
К пончикам он приучил дочку с той поры, когда она только-только начала ходить ‒ тогда чаще гулял, больше уделял внимания. Так уж получилось, что у них в Затеряеве тоже продавали пончики на городском рынке, а за ним вереницами тянулись разномастные гаражи. Был гараж и у отца, часто бравшего с собой сынишку, когда в выходной копался с «Жигулями». На обратном же пути они обязательно покупали несколько пончиков, сами ели, приносили маме и брату, и это стало привычкой. Вот и сейчас, услышав о лакомстве, Виолка засопела, с бабушкиной помощью торопливо надела кофту, куртку, скрипнула липучками кроссовок и посмотрела Семёну в глаза, словно доложила о готовности. И он не выдержал её радостного взгляда ничего не понимающего человека, и не объяснишь ему по-настоящему, почему, зачем куда-то завтра отправится её папка, и неизвестно, когда вновь они увидятся, и сколько должно пройти времени, чтобы она вот так же опять посмотрела в глаза.
Они быстро доехали до гаража, Семён хотел отсоединить аккумулятор, но он спрятан так глубоко под задним сиденьем, что не сразу его извлечёшь. Хотя зачем? Не на год и не на два он собирается в командировку. Зачем ему так долго задерживаться. Оставив машину, они заглянули в палатку рядом с магазином, где он купил пакет пончиков. Потом вышли в сквер и уютно уселись на освещённую солнцем скамейку. После того, как Семён вернулся из Затеряева, он мало приглядывался к облакам, лужайкам, аллеям, а сейчас заметил, что пришла настоящая осень, если клёны и липы закутались в золотые, искрящиеся на солнце одежды. Да и под ногами было разбросано много цветастых листьев, а среди них, почти незаметные, слетевшиеся воробьи: скачут бочком, склонив голову, заглядывают в глаза ‒ выпрашивают угощение. Покрошил Семён пончик, отдал дочке, и она, словно курам, принялась разбрасывать угощение птичкам, устраивая среди воробьёв кутерьму. Когда угощение закончилось, Виолка попросила:
‒ Давай ещё покормим воробьишек!
‒ Хватит, они уже наелись, видишь, как пёрышки чистят и прихорашиваются. Да и мало пончиков осталось ‒ как раз бабушку угостить.
Виола замолчала, Семён вытер платком сахарную пудру на губах такой родной дочки, позвал:
‒ Пошли домой, нас бабушка ждёт!
Пока они гуляли, Маргарита собрала обед, вскоре все сидели за столом. Семён грустно поглядывал на дочь, тёща его взгляд перехватила, сморщилась, покачала головой, печальным видом будто говорила о скором расставании. Без аппетита пообедав, Семён собрался к себе.
‒ Завтра отключу холодильник, что-то доем, что-то заберу с собой, перекрою воду, электричество. Вам только останется раз в месяц оплачивать коммунальные платёжки и следить за порядком. Деньги есть?
‒ Не переживай. Найдутся. Могу и тебе с собой дать ‒ мало ли что купить придётся.
‒ Обойдусь. Куда мне их. Ведь и на карточке есть, и сегодня под расчёт наличными получил.
Он вроде бы всё сказал, но уходить не хотелось, словно он разрывал ‒ пусть и слабую, но соединяющую нить, оставлял много неопределённого, горечью оседавшего на душе. Виолка всё это время не отходила, он прижимал её к себе, напоследок обговаривая с Маргаритой бытовые мелочи, и не было сил сказать: «Я пошёл, до скорой встречи!». Тёща вполне поняла его состояние и перекрестила, вложила в карман куртки бумагу, завёрнутую в целлофан, пояснила:
‒ Это «Живые в помощи»! Всегда держи при себе, а лучше выучи и повторяй в трудную минуту… А пока, как говорится, с Богом! Храни тебя Господь!
Семён понял, что Маргарита искренне переживает за него, и по-сыновьи обнял её, потом подхватил и поцеловал Виолку и почти сразу, чтобы не рвать душу, поставил на пол, вздохнул:
‒ Мне пора. Будет возможность, позвоню! ‒ и поспешил выйти из квартиры; не дожидаясь лифта, побежал по ступенькам.
Тревога, печаль расставания ‒ всё в нём смешалась. Он хорошо помнил, как уезжал весной в Гудермес. Тогда всё напоминало приключенческую игру, и за дочку душа не болела, теперь же всё было по-иному: тяжело и непредсказуемо, даже не верилось, что так быстро жизнь может изменить семью, выхолостить её, превратить из беззаботной в полную тревог и неизвестности. Тесть отошёл в мир иной, жена, пусть и неверная, пропала. Была бы она рядом с Виолой, было бы спокойнее, а если что-то случится с Маргаритой… Даже думать не хотелось об этом.
В квартире, дожидаясь Людмилу, он начал потихоньку собирать вещи и принадлежности. Приготовил куртку, брюки, берцы, свитер, достал вязаную шапочку, порыскав по шкафу, нашёл две пары белья, несколько пар носков, приготовил «рыльно-мыльные» принадлежности, ложку, кружку, перочинный нож. Что ещё взять? Да разве всё предусмотришь!
Чтобы не слоняться по квартире и не тосковать впустую, решил нажарить картошки, мяса и провести общую ревизию холодильника. Запасов он особых не держал, поэтому приготовил себе в дорогу пакет бутербродов на первый случай и положил пакет в морозилку, сунул в рюкзак попавшуюся под руку пластиковую бутылку минералки, а всё остальное сложил для Людмилы.
Пока жарились мясо и картошка, он позвонил отцу, решив не скрывать свою мобилизацию, как скрыл весенний побег на фронт, и как можно спокойнее сказал, что получил повестку и завтра отправляется. Отец выслушал его и ничего сразу не сказал, словно не понял, а потом встрепенулся:
‒ Скажи, где, когда ‒ приедем с матерью проводить тебя!
‒ Пап, спасибо, но, честное слово, не хочется видеть мамины слёзы.
‒ Тогда один приеду!
‒ И этого не надо. Я не пацан какой, чтобы за ручку вести меня в военкомат. Разберусь, всё нормально. Постараюсь звонить, но это уж сам понимаешь, как получится. Лучше вот что имей в виду: позванивайте Маргарите, а то она одна осталась с Виолкой.
‒ А где же Ксения?
‒ Нет её. Поехала в Испанию и ни слуха от неё, ни духа. Так что позвоните Маргарите, поддержите её.
‒ Позвонить-то позвоним и в случае чего выручим ‒ родные всё-таки, а вот что жена твоя пропала ‒ это непорядок. Написали хотя бы заявление в полицию?
‒ Пап, давно написали, хотя сейчас такое время, что трудно ожидать чего-то определённого, тем более искать концы в Европе. Ладно, надеюсь, всё будет хорошо. Постарайся успокоить маму, скажи ей, что скоро вернусь. Целую вас! Мне надо собираться.
‒ Погоди, где твой военкомат?
‒ В Заречье.
‒ Какая улица?
‒ Почтовая… Всё-таки хочешь приехать?!
‒ А как бы ты поступил, если бы собственный сын на фронт уходил? На какое время назначено?
‒ К восьми…
‒ Вот и хорошо, завтра увидимся. Взял бы и мать, но она приболела. Так что до встречи.
Семён вздохнул:
‒ Ладно, пап, до завтра!
Он отключил телефон, не в силах более рвать сердце, выкручиваться, говорить одно, а думать другое. Хорошо, что звонок в дверь отвлёк. Дверь распахнул, а перед ним Людмила.
‒ Проходи, Серёжкина, что замерла? ‒ пригласил Семён.
Она вошла настороженно, не как прежде, даже осмотрелась, словно остерегалась чего-то, и вгляделась в него так жалостливо, что он невольно шумно выдохнул:
‒ Ты чего такая?
‒ Неожиданно всё это! В голове не укладывается, что завтра расстанемся.
‒ Обычное дело для мужиков. Пришло время, значит, надо идти и защищать Родину! Вот и рюкзак собрал!
‒ Какой-то он худой у тебя.
‒ Остальное в боях добудем! ‒ усмехнулся Семён.
‒ Всё шутишь…
‒ Шути не шути, а пора ужинать. Мой руки и ‒ за стол. У меня бутылка вина припасена по случаю!
Они шутливо переговаривались, но оба понимали, что шутки их натужны, даже неуместны, только когда Семён налил в бокалы вина, посерьёзнели.
‒ Можно я скажу? ‒ спросила она и, собравшись с мыслями, прежде посмотрела на него долго и пристально: ‒ Возвращайся невредимым и как можно скорее. Давай выпьем за это!
Они неожиданно быстро почти осушили бутылку, и она, запьянев, с нескрываемым вызовом сказала:
‒ Мы с тобой знакомы два месяца, и, заметь, я никогда не спрашивала о твоей жене, но сегодня хочу спросить, чтобы ждать тебя по-настоящему или…
‒ По-настоящему! ‒ развеял её сомнения Семён и рассказал всю историю, начиная с апрельского отъезда на Донбасс.
‒ И что, так и не знаешь, где она сейчас? ‒ выслушав внимательно и не перебивая, спросила Людмила, глядя в глаза, словно не верила.
‒ Не знаю и не особенно интересуюсь. Единственное, кого жалею в этой истории, это дочку: она ведь ждёт, спрашивает о ней.
‒ Это так. Дети в подобных историях более всего страдают. Когда мы с мужем развелись, Валерик часто спрашивал об отце. Я сначала всякую чушь городила, а когда он укорил: «Бабушка сказала, что мой папа бросил нас!» ‒ всё рассказала, как есть, и более он никогда об этом не спрашивал. Из тебя, кстати, тоже слова не вытянешь!
‒ Зато сегодня разговорился, ‒ усмехнулся Семён, успевший посмотреть на Людмилу совсем по-иному, потому что никогда не интересовался её мужем.
За ночь они много о чём успели переговорить. Семён пытался вернуть прежние чувства, забыть её сегодняшнюю болтливость, но ведь она ‒ женщина, и как ей не думать и не переживать о том, что для неё оставалось тайной и что давно надо бы рассказать самому, а не дожидаться наводящих вопросов и крайнего срока. Что-то всё-таки удалось поменять в себе, вернуть обычное отношение и без слов понять это, когда на рассвете Людмила неудержимо расплакалась. Он не успокаивал, ничего не говорил, лишь обнял, прижал к себе и ждал, когда она выплачется.
23.
Поднялись они задолго до отправления. Попили кофе, Семён выгреб остатки еды из холодильника, отключил его, отдал пакет Людмиле, потом перекрыл воду в стояках, вырубил электричество, закрыл окна, сказал, собравшись уходить:
‒ Присядем на дорожку!
У остановки автобуса Людмила объявила:
‒ Я провожу тебя!
‒ Как ты себе представляешь проводы? Пришёл я в военкомат и сразу отбыл? Так, что ли? Нет, всё не так. Сначала помаринуют, потом медкомиссию надо будет пройти, и только часа через два-три построят перед отправлением. Так что, Люда, езжай на работу. Твой автобус идёт… Давай поцелуемся!
Он обнял её, припал к тёплым губам, и опять она потекла слезами. Попытался успокоить:
‒ Перестань, всё хорошо будет… ‒ И чуть ли не подтолкнул к двери, подхватил под локоть и почувствовал, как она дрожит; уехала, и сразу он стал одиноким-одиноким, и мысли только о том, что ждало впереди.
До военкомата он добрался на маршрутке, где к этому часу собралось изрядно народу, и почти у дверей чуть ли не столкнулся с отцом.
‒ О, привет, Иван Семёнович! Ты уже здесь?!
‒ А я уж звонить тебе хотел…
Они обнялись, а отец потянул за собой к выходу со двора:
‒ Давно тебя ждём! Я ведь с матерью приехал. Пойдём, поговори с ней! Она почти ходить не может ‒ радикулит перекосил, еле до машины довёл.
‒ Ну, вы даёте огня!
Они вышли за ограду, а за ней машины в ряд к бордюру приткнулись, и мама из знакомой легковушки машет. Семён распахнул дверцу, обнял свою родимую, а она сразу слезами зашлась; отец закурил.
‒ Как же так, сынок, получилось, что покидаешь нас? По своей воле или как?
‒ Мам, разве не слышала о мобилизации? Ничего не поделаешь. Не я один.
‒ Это что же ‒ война пришла, а мы живём, и знать ничего не знаем. Где-то что-то происходит, нас не касается, думали, что всегда так будет.
‒ Ну вот коснулось. И ничего изменить нельзя: закон есть закон.
‒ Как же жалко тебя. Ты ведь у меня один теперь, вся надежда на тебя была, когда Андрея не стало, а теперь и тебя забирают!
‒ Мам, да вернусь я, никуда не денусь. Поменьше обо мне убивайся. Я ведь не пацан какой… ‒ Он ещё что-то говорил, а она, похоже, не слышала ‒ утирала платочком слёзы и беззвучно рыдала.
Семён посмотрел на отца:
‒ Пап, мне пора, надо доложить о прибытии. Успокой Лексевну.
Отец встрепенулся, подошёл к машине, тронул жену за плечо, попросил:
‒ Ну, хватит, Вера! Хватит! Он не один такой. Во все времена так было.
‒ Мам, пап, спасибо большое, что приехали, теперь и на душе будет легко, всегда буду вас вспоминать. Давайте обнимемся, и пойду, а вы не ждите ‒ можно и полдня прождать отправления. Пап, садись за руль!
Семён обнял отца, подошёл к матери, поцеловал её, несильно прижал к себе, вздохнул и словно попросил извинения:
‒ Пора! ‒ и поправил рюкзак, круто развернулся и стал пробираться ко входу в военкомат. Уже на ступеньках оглянулся и увидел отца, махавшего вслед, приостановился, махнул ему в ответ и торопливо раскрыл дверь, словно спешил сократить расставание.
Доложил дежурному о прибытии, тот проверил повестку, сотрудница военкомата оформила документы, сделала отметку в журнале и указала на боковую дверь:
‒ Проходите на медкомиссию!
Именно её, этой комиссии он боялся более всего, и боязнь эта пришла, когда получил повестку, поэтому изводил себя мыслью: «Всех взбаламутил, а вдруг завернут, как дефектного. Кто-то, может, и порадовался бы этому, но мне такая лафа ни к чему!». Но делать нечего ‒ прошёл в коридор, встал очередь. Мужики все суровые, молчаливые, лишь двое, видимо знакомые, вспоминали недавнюю поездку на охоту, сколько они уток настреляли и как потом славно погужевались, завалившись к молодухам, и как потом еле унесли ноги от местных мужиков. «Молодцы, ребята! ‒ подумал Семён. ‒ Впереди у вас славная охота. Вся стрельба впереди!».
В какой-то момент он вспомнил о родителях, и стало нестерпимо жалко обоих. Поставил себя на их место и не сумел представить, как бы сам отнёсся к мобилизации единственного сына. Это невозможно представить, что-то в этих фантазиях виделось бесчеловечное, варварское, разрывающее душу. Уж лучше не думать об этом, а положиться на волю божью, везение и собственную осмотрительность.
Главное, кого он опасался из врачей ‒ это хирург и невропатолог. Терапевта он прошёл легко, а эти вполне могут придраться к раненой ноге, начнутся выяснения: когда, при каких обстоятельствах была проведена операция, как проходила реабилитация. На его счастье невропатолога не оказалось, а на вопрос хирурга, сидящего за столом: «Были переломы?» скороговоркой ответил: «Нет, не было…».
‒ У вас вот отмечено, что вы участник СВО. Давно вернулись? И по какой причине?
‒ Добровольцем был, но недолго… Ранение в голень.
Врач вышел из-за стола, осмотрел ногу, спросил:
‒ Кость была задета?
‒ Нет…
‒ Но шрам почему-то обширный.
‒ Так операцию делали, какую-то мышцу сшивали… ‒ Семён притворялся и не до конца выдавал подробности. Ведь скажи он, что было задето ответвление седалищного нерва, то вполне врач мог бы завернуть его, дать отсрочку, а Семёном к этому моменту одолело упрямство, когда он ни о чём не хотел слышать ‒ только мобилизация, только быть со всеми.
Врач, видно, был опытным, внимательно посмотрел в глаза Прибылому, будто сказал: «Лукавишь, братец!» и попросил:
‒ Вытяните руки вперёд и присядьте несколько раз!
Просьбу Семён послушно и резво выполнил, а врач, что-то записав, отдал ему «бегунок» и махнул рукой, мол, проходите далее. Окулист и «лор» Семёна не пугали, потому он знал, что со зрением и слухом у него порядок, поэтому с лёгкой душой отметился у них и прошёл в зал, где скапливались прошедшие медкомиссию. Народ разный, и по-разному вели себя мужики: кто ковырялся в рюкзаках, доставая еду, кто дремал ‒ и ни одного знакомого. После часа ожидания появился невысокий новичок, с навьюченным рюкзаком выше головы; приглядевшись к нему, Семён узнал водителя со своей базы, предлагавшего отметить мобилизацию. Махнул ему рукой, обращая внимание. Тот увидел его, подошёл и заулыбался:
‒ Один знакомый есть!
‒ Рад видеть, Анатолий!
Поздоровались. Тот сел рядом, попросил:
‒ Семён Иванович, называйте меня Толяном ‒ мне так привычнее.
‒ Тогда и я буду просто Семёном. В какую команду зачислили?
‒ Мотострелок я, буду за танками пыль глотать да на бэтээрах задок морозить, а в перерывах в землю закапываться. Хотя, до конца не знаю, куда меня записали. Может, сразу в водители. Я бы согласился!
‒ Значит, мы с тобой коллеги. Может, вместе попадём.
‒ Неплохо бы, если уж такая масть пошла.
Семён подумал, что ему в общем-то всё равно, куда направят, не для того он сюда пришёл, чтобы торговаться и выпрашивать для себя хлебное место. Правильно ведь Толян сказал, какая масть придёт, так и будет. Из-за этих бесшабашных слов «коллеги», заранее остригшегося наголо, отчего рыжеватые волосы почти не были заметны, Семён по-иному присмотрелся к нему, вдруг подумав о том, что был бы благодарен судьбе, если она и далее будет их сводить. Ведь посмотреть особо не на что: мелкий, кособокий какой-то на вид, и говорит, через слово матюгаясь, а всё равно в нём чувствовался характер и надёжность, словно у великана-богатыря. И ещё подумалось о том, что среди многих тысяч воинов Толян будет единственным знакомым, к тому же земляк ‒ это многое значит.
Они пробыли в военкомате почти до обеда, когда началась, как сказал Толян, «движуха» и вскоре прозвучала команда дежурного офицера: «Выходи строиться!». Все они, утомившиеся от ожидания, ручьём устремились к дверям, на свежий воздух, и построились перед зданием военкомата в четыре шеренги без соблюдения ранжира. За отгороженной ленточкой площадки для построения скопились провожающие, Прибылой никого не ожидал увидеть, но вдруг раздался знакомый звонкий голос: «Се-ня!». Вгляделся он и увидел Людмилу, и будто током пробило от радости, оттого что кто-то, помимо матери и отца, пришёл проводить! Не ожидал он такого подарка и сразу помахал ей, а потом, пока произносились прощальные речи военкома, чиновников, священника, смотрел и смотрел на Людмилу, и показалась она в эти минуты необыкновенно красивой в лёгкой кремовой куртке, с волнистыми, распущенными до плеч каштановыми волосами, и почему-то именно в этот момент вспомнил он их запах и задышал глубоко и взволнованно.
Перед отправлением оставили несколько минут на общение с родственниками, и Семён в числе первых подбежал к Людмиле. Обнял её, расцеловал с таким жаром, словно не виделись они много лет, и почему-то не было слов, чтобы выразить чувства, и все они были заменены двумя словами:
‒ Долго ждёшь?
‒ Готова всю жизнь ждать, но желаю скорейшего возвращения.
Он хотел было сказать, что, мол, не обязательно так переживать, суетиться, но ничего не сказал, потому что подобные слова и сама мысль об этом показались неуместными. Они так и стояли, пока не раздалась команда: «По автобусам!» ‒ и духовой оркестр заиграл марш «Прощание славянки». Поцеловав Людмилу и сказав: «Я вернусь!», Семён пошёл к автобусу, сел у окна и махал до той поры, когда за окном мелькали провожающие. «Вот и всё, ‒ подумал Прибылой. ‒ Началась другая жизнь!».