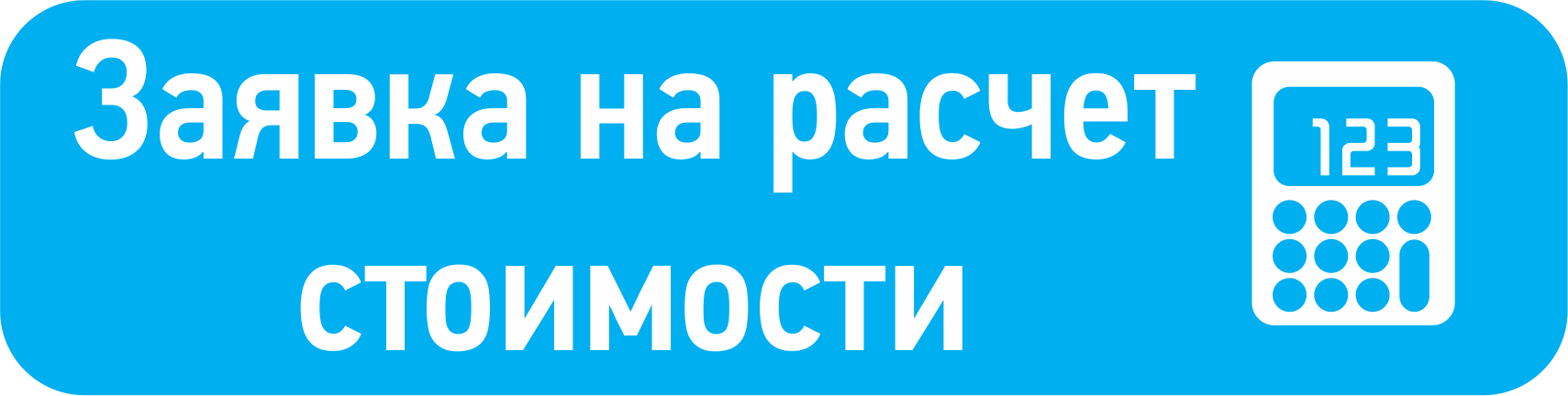Приятное путешествие в кабине «Урала» втроем прекратилось неожиданно быстро. Командирская машина свернула с дороги налево — прямо в кустарник. Повинуясь этому движению, мы также свернули за ней, следуя строго в колонну. Я сразу почувствовал, что ничем хорошим для нас этот маневр не закончится. И точно.
Приятное путешествие в кабине «Урала» втроем прекратилось неожиданно быстро. Командирская машина свернула с дороги налево — прямо в кустарник. Повинуясь этому движению, мы также свернули за ней, следуя строго в колонну. Я сразу почувствовал, что ничем хорошим для нас этот маневр не закончится. И точно.
Выстроившись у машин, наша батарея получила приказ оборудовать огневую позицию прямо на этом месте.
Кто там, наверху, метался, принимая то одно, то другое решения, видимо, не зная, на чем остановиться, но метания его мысли, рикошетирующей в черепной коробке, отражались на нас далеко не самым благоприятным образом.
Я огляделся. Кустарник был отнюдь не мелким. Это значило одно — нам нужно расчищать сектор обстрела. Иначе снаряд, зацепившись за какую-нибудь ветку, может прямо здесь и разорваться.
Я сказал об этом Рустаму.
— Что я — сам не знаю?! — накинулся он на меня. — Да, будем расчищать!
— Так их тогда рубить надо! Ты глянь, какой они высоты! — в свою очередь, завелся я. — У нас топоров нет!
— Ну и хрен с ними! Лопатами пусть рубят! — ответил мне командир батареи.
Я обалдело открыл рот. Конечно, пословица, что «нет безвыходных положений, а есть неприятные решения» в какой-то мере верна, но не до такой же степени.
Впрочем, до рубки дело еще не дошло. Сначала надо было оборудовать позицию и выставить буссоль. На этот раз с буссолью возился сам Рустам, а я прохаживался вдоль линии орудий, надзирая за работой.
Между прочим, опыт окапывания, приобретенный за последние двое суток, сказывался на бойцах весьма положительно. Во всяком случае, оборудование огневой позиции заняло у нас заметно меньше времени, чем раньше. Я не замедлил выразить свое восхищение действиями личного состава: ничем большим я не мог их отблагодарить, пусть хоть моральное поощрение какое-никакое получат.
Я пока умолчал о том, какая работа их ждет впереди… И правильно сделал.
Как говорится, не успели лопаты отзвенеть о твердый грунт, как примчался на «шишиге» начальник артиллерии бригады майор Гришин, высунулся в открытую дверцу и, не выходя из кабины, завопил:
— Сворачивайтесь быстро и за колонной направо!
Развернулся и упылил в неизвестном направлении. Мы только рты пооткрывали.
Измученные бойцы не выразили возмущения, как мне кажется, только по одной единственной причине: уж очень боялись контрактников. Те-то не копали, зато всецело поддерживали решения вышестоящего командования. (Ну, ей-Богу, как блатные и «пятьдесят восьмая»!).
И потому безропотно орудия были вытянуты обратно, закреплены за «Уралами» и наша батарея двинулась в сторону, указанную майором Гришиным.
Между тем, наступала ночь. Я с ужасом представил себе еще одну ночевку на трассе. И как бы издеваясь, в колени снова вернулась нарастающая боль.
Очень скоро мне стало все равно, где мы остановимся. Где угодно! Лишь бы остановиться, выйти из кабины и походить. Или постоять… Все равно — лишь бы не сидеть. Была бы возможность, я лег бы прямо в снег, и вытянул ноги. (Не протянул, а именно вытянул).
Поля с кустарником закончились, пошли поля голые, покрытые неглубоким снежным покровом. Несмотря на спустившуюся темноту, от белого нетронутого снега было почти светло. Я обратил внимание на изгороди, сложенные из длинных деревянных жердей.
«Наверное, огороды», — подумал я, и откинулся на спинку сиденья, вообще перестав обращать внимание на окружающее.
«Урал» остановился снова. Постоял, урча, и пошел с дороги прямо в поле.
«Все ясно, снова будем окапываться».
Для бойцов это было уже четвертое по счету окапывание за последние двое суток. Чтобы работа нагло не игнорировалась, к каждому расчету приставили по отдельному контрактнику. И худо-бедно, но дело пошло.
Все, в кабине сидеть я уже не мог. Да и не хотел. Покинув машину, я отправился к расчетам. То, что мое место могут тут же занять, меня почему-то не беспокоило. Наверное, во мне проснулась совесть.
От машин до линии орудий оказалось неожиданно далеко.
Первым, кого я встретил, был сержант Карабут, страдалец с лицом мудреца. Он робко спросил, кончатся ли когда-нибудь его муки, и если кончатся, то когда. Я пожал плечами, (а что ещё можно было сделать?), и ответил, что все в воле Божьей.
Командир другого орудия — сержант Волков — мрачно матерился и отпускал ядовитые шуточки в адрес своих подчинённых: рядовых Шиганкова, Лисицына, а также наводчика Феди Коломейчука. Контрактник, ответственный за данные орудия, отсутствовал — наверняка уже мирно дрых где-то в машине.
В этот момент я почувствовал, что у меня поднимается температура. Мне почему-то стало весело.
Прервав зануду Волкова, я сам принялся за отпускание шуток в адрес личного состава. Это были, в отличие от Волкова, беззлобные шутки. Потом я заставил петь бойцов патриотические песни. Видно было, как ни странно, что настроение у них поднялось… Когда у меня есть настроение, я могу чесать языком не хуже легендарного замполита Косача. Вот я и чесал им, наверное, в течение часа.
У нашего орудия стоял уже не просто смех, а настоящий хохот. Подошедший на такое веселье Карабут спросил у меня, не будем ли мы ещё куда-нибудь сегодня переезжать. Я, уже в который раз за этот день, пожал плечами:
— Мы люди маленькие. Куда скажут, туда и поедем!
Так Карабут и ушёл в неопределенности. Он, может быть, и ещё постоял бы, но Волков так выразительно на него посмотрел, что сержант счёл за лучшее быстрее удалиться…
Пока в очередной раз окапывались, наступила самая ночь — время выставлять караулы. Получив такой приказ, личный состав с облегчением понял, что на сегодня переезды и работы закончены. Ночь в их власти — отдыхайте. Тем более что этой ночью было не в пример теплее, чем прошедшей.
— Ну, друзья, — сказал сержант Волков притихшим рядовым, — кто будет стоять первым?.. Шиганков! Тебе кто больше нравится? Лисицын или Федя? Чего молчишь?.. Ну, например, кого бы тебе хотелось поцеловать?
Это было так неожиданно и смешно, что я захохотал. Смех сгибал меня пополам: я смеялся уже не над шуткой сержанта, я пытался смехом выдавить из себя все переживания и неудобства прошедших суток. Я смеялся, и мне становилось легче и свободнее, и будущее уже не выглядело таким угрюмым и зловещим.
Мрачному Шиганкову целовать не хотелось никого, но выбора у него особого не было, и он предпочёл своего земляка Лисицына.
Кстати, я обратил внимание на то, что ремня у Шиганкова не было. Интересно… Куда же он его дел? Потерял? Вот скотина! Потерял-то он, а отвечать будем мы с Рустамом. Не солдаты, а дети малые. Как в детском саду: на горшок он вовремя не сел — командир батареи виноват, совочек в песочнице потерял — опять же тяни к ответу офицерский состав. А, может быть, отобрали у него ремень? Ну, если отобрали, то доложи, не молчи! Будем принимать меры.
Все это промелькнуло у меня в голове, но я не сказал рядовому ни слова — мне не хотелось портить свое, едва установившееся, хорошее настроение. Ветер заметно ослабел, мороз не донимал, поле было белым-бело, а от того ночь казалась светлой… В общем, мне было просто хорошо.
Позади нас, в линии машин, разожгли костры. По идее, это было запрещено, но, как говорится, если очень хочется, (да и нет другого выхода), то можно. Бойцы сливали солярку из бензобаков в каски, поджигали её и грелись вокруг, ведь многие после прошедшей ночи нехорошо кашляли и чихали.
Что я должен был сделать? Заорать, топтать ногами костры, заставить гасить солярку в касках? Да, каски — это казенное имущество, и портить их не положено. (Уж не сомневайтесь — после того, как их использовали в качестве плошек, такие каски можно только выбросить на свалку). С другой стороны, а как же рядовые бойцы? Которые мерзнут как собаки? Что для меня важнее — казенные каски или человеческое здоровье?
Будь я службистом — карьеристом, наверное, каски мне были бы однозначно дороже. Все же это материальные ценности, за которые я отвечаю. А что будет с бойцами после окончания службы, (если доживут, конечно), меня лично не касается.
Увы, но я просто «пиджак». Я не стремлюсь сделать карьеру. Мне не жалко этих касок. Я полагаю, пусть в данном конкретном случае бойцы делают так, как им удобнее. Им надо согреться — пусть греются!
Я прошел мимо своего «Урала» и подошел к ближайшему костру.
В нем пылали доски из забора, обильно политые горючей жидкостью. Ближе всех к костру сидели Аншаков, и, конечно же, Серый, которого било как в лихорадке. Мне было ясно видно, что он серьёзно болен.
Врачей у нас в дивизионе не было. И, честно говоря, я даже не представлял себе, есть ли они вообще в нашем маршевом батальоне.
Внезапно я задумался. А должен же быть у нас в боевом походе штатный медик. Вот, скажем, тот же Серый — насколько он болен? Может быть, ему давно надо в госпитале с кислородной подушкой лежать, а мы тут его мурыжим, работать заставляем. Но кто должен это сказать? Я? Я не компетентен. Нужен врач. Простой военный врач. Да где ж его взять?
Может, он и должен быть здесь у нас в штате. Но кто поедет? У нас в дивизионе в медчасти одни женщины, причем все из местных. Как их можно отправить на войну?
Как отправить на войну женщину, (а наверняка по штату в дивизион положено иметь одного медика), к десяткам голодных, замерзших, уставших, обозленных на весь мир бойцов? Чтобы ее саму от них охранять? Ну, глупость, правда? Все понимают. Тем более что у этой женщины муж есть, и дети, скорее всего, есть. Да ее просто муж не отпустит.
Конечно, по закону она должна ехать, и за отказ ее должно ждать суровое наказание. Но ведь и мы все понимаем, что есть законы писаные и не писанные. Что никто ее за отказ в тюрьму или даже на губу не посадит.
Просто — напросто надо заканчивать с этим гнилым либерализмом, когда в медчасть тащат жен офицеров и прапорщиков. Если это большой госпиталь, там да — это нормально. Но не там, где медик должен быть на передовой, в полевых условиях. Как одной женщине просто элементарно существовать в полевых условиях? А, да что говорить!..
И в результате мы все в глубокой… М-да! Медик должен быть мужчиной! Однозначно! Военный медик — я имею в виду. Вот с Серым он бы разобрался, да и мне, честно говоря, очень бы помог. Хоть бы определил, отчего у меня так ломит колени. Хоть таблетку какую выписал. Или мазь прописал. Хоть бы боль унять…
Чем я могу помочь этой скотине и наркоману Серому? Скотине — потому что наркоман. Но мне его жалко. Мне маму его жалко, которая носила его, родила, нянчила, воспитывала, и теперь эта сволочь загибается здесь… Жалко! Но чем он лучше других? Того же Шиганкова, Лисицына?.. Волкова, в конце концов? Ни чем! Совершенно ни чем! Все мучаются, и он должен мучиться. Как все…
Я немного посидел у костра, погрелся, но вид кашляющего как туберкулезник Серого меня постоянно напрягал. Я встал и ушел в линию орудий, чтобы проверить караулы. Между нами и Первомайским было только поле, так что дело было серьезное. Если Радуев захочет уйти из блокированного поселка, почему бы ему не сделать этого именно в этом месте? Почему нет? Надо хорошенько внушить часовым, чтобы бдили, а то самому стало как-то неспокойно.
Часовые были на месте. Я постоял вместе с ними, вглядываясь в сторону Первомайского, а потом опять вернулся к костру.
Так я и ходил туда — сюда несколько часов подряд. Ровно в четыре часа утра меня стала неудержимо одолевать усталость, и я начал бояться, что могу уснуть на ходу. Я опять перепоручил все заботы покладистому Логману, а сам с неописуемым удовольствием полез спать на освобожденное им место. «Только бы уснуть раньше, чем заболят колени», — уже засыпая, подумалось мне…
На южном фронте без перемен. Часть 1. Первомайский. Глава 12
Яковенко Павел Владимирович
| |
|
поделись ссылкой на материал c друзьями:
| |
| Всего комментариев: 0 | |