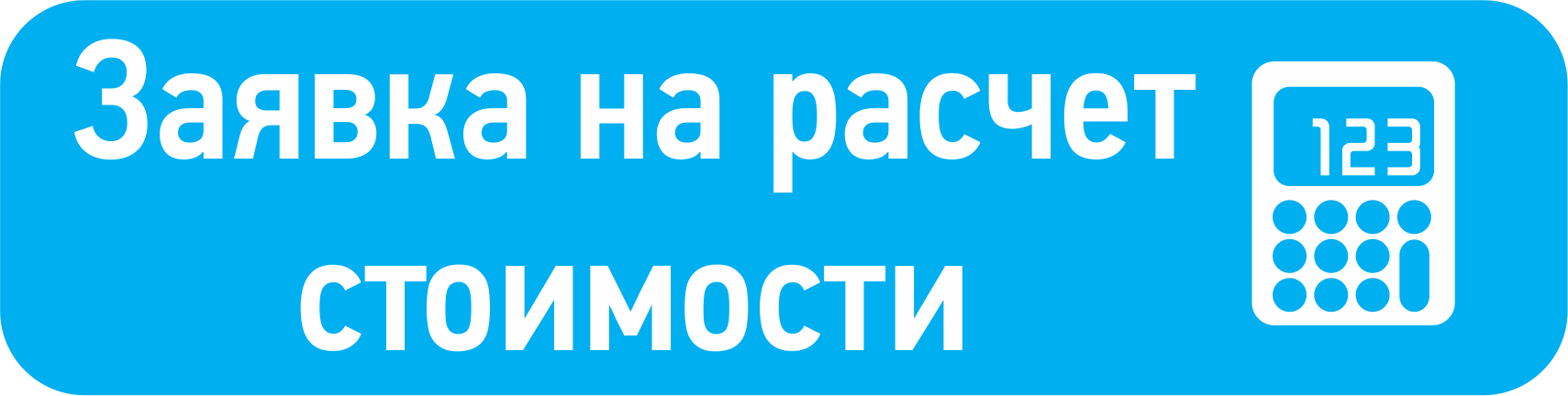В этот момент дверь открылась. В ярком свете коридора сначала обозначился Борис, за ним Михаил. В руках у обоих были бутылки с пивом.
В этот момент дверь открылась. В ярком свете коридора сначала обозначился Борис, за ним Михаил. В руках у обоих были бутылки с пивом.
— Самолёт летит — колёса стёрлись! — Петрушечьим голосом выкрикнул Борис. — Вы не ждали нас, а мы припёрлись!
Его лицо плыло. Купе перед глазами кружилось.
«…Протестовал против Чечни» — Стучало в висках. — «Значит мы оккупанты?» Николай вспомнил подорванный автобус, с детьми. «Значит, по его мнению, это правильно?'' Он вспомнил, как на его глазах в мокрой яме под корнями старого вяза у него на руках трудно умирал Антон Снегирев. Пуля разорвала ему печень. Он истекал кровью, но до ближайших наших позиций было больше десяти километров. Кругом было полно боевиков, и вызвать «вертушку» было просто невозможно. '«Значит он погиб зря? Значит, мы все оккупанты?!»
— Ну, что затих герой? — Шутливо ткнул его в плечо Михаил.
— …Бойцы вспоминают геройские дани и битвы, где вместе рубились они. — Продекламировал Борис.
Николай тяжело поднял голову. Мысли ворочались как старые жернова.
— Да вот, говорят, ты против войны протестовал? Против нас оккупантов…
Глаза Бориса мгновенно сузились, он отодвинулся.
— Это ты что ли лекцию провела? — Глухо бросил он Алле.
— Да, Борь, а что? Я же только правду — Растерянно произнесла та.
— Ну, так что с оккупацией? — процедил Николай.
— Никак. — Мягко ответил Борис, — Ложись, отдохни. Алла немного переборщила. Не будем из мухи слона делать.
— Вот как? — Николай зачем-то кивнул, — Слона! А как же с геноцидом быть?
— Ну, вот что, герой! — Неожиданно вмешался Михаил — Хватит тут духариться! Мы таких как ты видали. Не звени медалями. И мученика здесь не изображай. На нас это не действует. Ты домой едешь. Живой здоровый. Так радуйся, что ноги унес. Кому-то меньше повезло. Нажрался на халяву и теперь тут выделываешься перед нами. Лезь в свою койку и дрыхни!
Николая мгновенно захлестнула волна какой-то дикой, неуправляемой злобы.
— Да я тебя, сука, порву! — Он попытался вскочить и броситься на толстяка, но ноги неожиданно подогнулись, и он неуклюже плюхнулся на диван. «Боже, как я напился!» — Обжёг его едкий стыд.
— Что? — Толстяк двинулся было к Николаю, но на дороге встал Борис.
— Брось! Не связывайся!
— Что не связывайся? — Завопил Михаил. — Этот «дембель» вшивый возникать будет, а я молчать!?
— Я сказал, брось! — Борис схватил Михаила за кисти рук.
Николай вновь попытался встать, но ноги окончательно отказались повиноваться и он упал боком на диван, больно стукнувшись лицом о край стола. «Напился!»
— Сволочи вы! — хрипло выдохнул он.
Было обидно и противно. За себя, за свое бессилие, за унижение перед этими…
— Николай, — Голос Бориса был неожиданно мягким и спокойным. — Ты взрослый мужик. Давай-ка прекращать дебош. Нам еще только пьяного скандала не хватает с милицией.
Николай посмотрел на Аллу. Она забралась с ногами на койку и откинувшись к окну, молча наблюдала за происходящим.
— Ты хочешь встречи с милицией? — Спросил Борис.
Николай мотнул головой.
— Вот и славно! — Борис облегчённо вздохнул и аккуратно присел на край дивана. — Так вот, о словах Аллы. Во-первых, женщин надо меньше слушать. А во-вторых, Николай, не обижайся и не злись, но ведь ты сам жертва этой Чечни. Ты попал туда восемнадцатилетним пацаном. Без веры, без убеждений, без жизненного опыта. Эта война тебя воспитала, и определила как человека. Не спорю, может быть как сильного человека. Но война обделила тебя в главном — в способности думать и оценивать всё вокруг себя без шор и штампов. Объективно, свободно… — Борис говорил уверенно, легко, словно лекцию читал — …А ведь именно в этом и заключается свобода человека. Узнать правду каждой стороны, и все подвергнуть сомнению. Только так можно выработать по-настоящему свою точку зрения.
Человек должен быть свободен от каких-либо выдуманных долгов. Свобода личности — вот главное. А в вас, «чеченцах» всю службу вырабатывали совсем другое. Вас отучали рассуждать, задумываться над тем, что вы делаете. Вас учили лишь слепо выполнять любые приказы. Подчиняться своим командирам и верить, что ничего другого на земле нет. Вы все какие-то однобокие. Как доходит дело до оценки серьезных вещей, вы тут же прячетесь за голые лозунги и вас ничем не вышибешь оттуда…
— А за какие лозунги прячешься ты? — спросил Николай-.
— Я? — Борис торжествующе улыбнулся — Ни за какие! Любые лозунги, веры, партии — это лишь вериги на человеке. Моя сила в том, что я создал в себе свободную личность. На любой факт, на любую ситуацию в мире я имею свою точку зрения. Я против Америки, когда она воевала во Вьетнаме, но я и пробив бессмысленной войны в Чечне, хотя к самим чеченцам любви не испытываю. Свобода — вот мое кредо.
А ты, увы, загнан в рамки идеологии. Родина. Долг. Патриотизм… Неужели ты не видишь, что прикрываясь этими словами, политиканы делают себе карьеры, генералы зарабатывают ордена и должности, а олигархи деньги на вашей солдатской крови делают?
Николай растерялся. Все сказанное было столь неожиданным для него, что всё в голове спуталось. Он и представить себе не мог, что кто-то вот так просто, почти играючи, разрушит всё то, во что он верил и чем жил. Он не знал, что сказать, что ответить. И ему, вдруг, стало невыносимо стыдно за это его молчание. И, с трудом подбирая слова, он хрипло заговорил.
— Ты… Твоя свобода… Знаешь, она на моей крови. На крови моих друзей. Это для тебя Родина — лозунг. Пустышка. А для нас Родина это наша жизнь. Ты ведь здесь сидишь. Не боишься, что убьют. «Бабки» зарабатываешь. Спишь, ешь, ни за что не волнуешься. А там без всякой философии чечены русских резали. Сколько тысяч погибло под Дудаевым и его мразью.
Я свою веру выстрадал. И там я стрелял не за олигархов и не за генералов, а что бы эта мразь сюда, в Россию не пришла убивать и грабить. Потому, что ничего другого она не умеет и не хочет делать. И ты после этого такое говоришь. Твари вы все неблагодарные!
— Давай-ка без грубостей! — Борис слегка побледнел. Тёмные его глаза вызывающе заблестели — Будем говорить по-взрослому. Вот для них — Он мотнул в головой в сторону Михаила и Аллы. — Им полезно послушать. Да, и тебе может пригодится! Видишь ли, Коля. «Вера», «выстрадал!». Какая вера? Ну, учительнице пару слов сказала, замполит с бумажки прочитал. Вот и все убеждения. Насколько я знаю Россию — у неё одна вера — вера в вечную халяву. Сидит она, родимая, на давно остывшей печи и ждёт, когда по щучьему велению, вдруг, и печка затопится, и щи закипят. Только на халяву в нашем мире ничего не бывает. И можно ещё сто лет с Чечнёй воевать, и ещё сотню врагов себе найти, а сидеть будем всё на той же холодной печи.
Пахать надо! Вкалывать как папы — карло, а не сражаться с какими-то черножопыми индейцами за какую-то абстрактную Родину. У Америки надо поучиться, как суппердержаву за двести лет можно построить. Или у немцев, как за пятьдесят лет из разорённого войной рейха стать процветающей страной.
Не вы там, на войне страну из задницы вытаскиваете. А мы. Я, мои друзья. Бизнесмены, менеджеры, управленцы, учёные. Мы деньги зарабатываем, мы налоги в казну платим, а вы там, в своей Чечне их просто сжигаете как бумагу. Да за один день этой войны денег столько тратится, что ты со всей своей деревней мог бы сто лет не работать.
Николай с тоской почувствовал, что окончательно запутался, потерялся в чужой логике. Что ответить ему, в сущности, не чего. Слова Бориса забивались как гвозди. Намертво и точно. И он лишь зло выдохнул:
— Спасители, говоришь? Только пока вас в России не было, спасать её было не от чего! И войны ни в Чечне, ни в Приднестровье, ни в Абхазии войны не было. И нищих не было. И городов замёрзших. Не Россию вы вытаскиваете, а на шею её взобрались и присосались к венам как упыри. Все соки из неё уже высосали…
— С тобой тяжело говорить. — Сухо сказал Борис. — Ну, да ничего! Жизнь покажет кто прав. И тогда…
— Уже показала. — Огрызнулся Николай.
— Что показала?
— Коньяк опять противно ударил в голову и смешал мысли. Все вновь начало кружиться перед глазами. Николая тяжело оглядел компанию::
— Да то, что не повезло мне с попутчиками. Думал, стоящие ребята попадутся, а оказалась вшивота!
— Почему ты нас всё время оскорбляешь? — Вдруг, с вызовом бросила из своего угла Алла. — Кто тебе дал это право? Кто дал тебе право нас судить? Ты кто такой вообще? Сидел с нами за одним столом, ел, пил, а теперь вдруг в судьи полез.
— А что, разве вы хорошие? — Пытаясь смотреть ей прямо в глаза, сказал Николай. — Вот ты своего мужа за дурака держишь. Но живёшь в его квартире, помыкаешь им как хочешь. Честная, да? А чего же ты с другим мужиком в отпуск катаешься, честная? Любишь его? Так уйди к нему — Он кивнул в сторону Бориса. — Но ведь не уйдешь! Квартиру не бросишь.
Алла мгновенно вспыхнула, но Николай уже не глядел на нее.
— …Или вон, Михаил. В армии на собачьих консервах деньги делал. Солидный человек.
На машину одолжить может. Кто я для него? Нищий с медалькой. Только ведь вор он. Обычный вор. Крыса, которая у своих воровала…
— А не много ли ты не себя берешь? — Вдруг оборвал его Борис. — По-моему ты слишком разошелся. Здесь тебе не Чечня, где всё можно. Здесь другие законы. И уголовный кодекс, между прочим, действует. Достал ты всех уже. Залезай на свою койку и спи. Иначе на следующей станции сдадим в отделение, и медаль не поможет.
— Мразь ты, Борис! И все вы тут, мразь! — Горячая злоба вновь захлестнула Николая. В душе было мерзко. Словно исполосовали её вонючим дёгтем. Он попытался, схватить, сидящего перед ним Бориса за грудки, но на плечах неожиданно повис Михаил, прижал мощным телом к дивану.
— Хватит! — услышал Николай над собой Бориса. — Придержи его. Схожу за проводником и милицией. Ответишь ты нам за этот вечер!
— Отвечу! — зло вздохнул Николай, питаясь сбросить с себя тяжелое тело.
…Ему снился бой. Остервенело бил где-то неподалеку пулемет. Жгло солнце. Эхо выстрелов, разрывов отражалось в безразличных ко всему суетному, людскому стенах ущелья. И он опять под пулями вытаскивал из горевшей машины мёртвого водителя. А потом был взрыв…
Он проснулся и не сразу сообразил, где находится. Грубо побеленный потолок, шершавые в зеленой краске стены. «Камера!» — вдруг обожгла его догадка.
И он сразу всё вспомнил.
Как долго лежал связанный простынями. Как на ближайшей станции в купе появился высокий сержант и, как всем купе его сдавали в отделение. Николай вспомнил, как бесполезно пытался он объяснить сержанту, кто эти люди и как тот, выведенный в конце концов, из терпения, спросил его в лоб:
— Пил?
И сразу стало ясно, что говорить дальше бессмысленно. Он вдруг понял, что уже ничего уже не сможет доказать.
— Да, пил… Оскорблял…
А потом заспешили на поезд эти…
…Он лежал, смотрел в потолок и думал, что форма, конечно, помялась и надо найти где-то утюг, погладиться. Неожиданно он обнаружил, что лежит в одной тельняшке без куртки. «Где она?» — заволновался Николай — «А медаль? Вдруг, эти сволочи её прихватили? Эх, дурак!
Зачем пил, зачем вообще с ними связался?» И ему стало горько и обидно до слез, За то, что он здесь, в камере. За то, что возвращение домой стало таким безобразным. «Один, — думал он, — Были бы ребята, не дали бы в обиду. А эти сволочи… Да еще в таком виде. В камере, как преступник…»
И, размазывая рукавом неожиданные слезы, он подошел к двери:
— Эй? Кто там? — Негромко позвал он. — Выпустите меня! Но никто не откликнулся. И тогда он, раздавленный какой-то давящей горло тоской и отчаянием, Николай заколотил, что есть силы кулаками по гулкой жестяной обивке двери:
— Медаль! Медаль-то хоть отдайте! Слышите, медаль верните, гады!!!